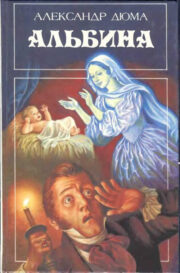— Друг мой, — сказала Роземонда, — если бы вам назначили руку Люцилии фон Гансберг, я посоветовала бы вам повиноваться воле графа: Люцилия прекрасная, благородная девушка, но, принуждая вас жениться на герцогине Д., граф Максимилиан оскорбляет Бога и права человеческие. Он ваш отец, Эверард, но у него жестокое сердце; вам опасно бороться с ним; остается одно — удалиться отсюда. Не беспокойтесь обо мне, Эверард; я была уверена, что наши мечты не более как химеры, что я никогда не буду вашей женой. Но я дала вам клятву и сдержу ее; я не буду принадлежать никому другому. Я буду молиться о вашем счастье и любить вас безнадежно. Я останусь верною вам навсегда, но вы, Эверард, свободны; удалитесь отсюда; старайтесь помириться с графом и своим поведением заслужить его любовь, тогда, если угодно, забудьте бедную девушку, которая не забудет вас никогда.
— Роземонда! — вскричал Эверард со слезами на глазах. — Твои слова облегчили мое растерзанное сердце. Я повинуюсь тебе: уйду отсюда, чтоб спасти моего отца. Ныне день смерти Альбины, и я боюсь, боюсь за своего отца.
— Что вы хотите сказать? — спросила девушка, заметив ужас в лице Эверарда.
— Ничего, ничего, — проговорил Эверард, — позволь мне скорее удалиться; только один последний поцелуй, поцелуй сестры, который я приму на коленях…
Эверард преклонил колено, и Роземонда поцеловала его в бледное чело. В эту минуту послышался хриплый хохот, молодые люди оглянулись — на пороге стоял граф Максимилиан в охотничьем костюме, с бичом в одной руке и с ружьем в другой.
— Чудесно! Прекрасно! — сказал он со злою улыбкою, поклонившись молодым людям.
Он вошел в комнату, бросил на стол свой бич и поставил к стене ружье. Роземонда, вспыхнув румянцем стыдливости, потупила глаза и не смела тронуться со своего места, но Эверард встал и гордым, решительным взглядом встретил насмешливые взоры своего отца. Максимилиан медленно снял свои перчатки и сел в кресло, закинув одну ногу на другую.
— Итак, загадка объяснилась, — сказал он с язвительною улыбкою, — вот где скрывается причина этой спартанской добродетели…
— Граф, — сказал Эверард, — если ваш гнев…
— Мой гнев? — с живостью прервал Максимилиан. — Кто говорит о гневе? Я человек благородный, Эверард, и сын восемнадцатого века. Я, благодаря Богу, не эремит, и вам, милые дети, нечего бояться. Если я приказал следить за вами, Эверард, я сделал это по внушению родительского сердца, верьте мне. Твоего отца, милая, я нарочно отослал в город, чтобы он не мешал вашему нежному свиданию. Видите, что я не тиран; только я не понимаю, почему ваша любовница…
— Простите, граф, если я прерву ваши слова, — возразил Эверард, — мой долг вывести вас из недоразумения. Выслушайте меня со вниманием, прошу вас. Вы оставили меня в замке одного, без руководителя, без учителя, без друга; я вырос как лесное дерево. Мог ли я считать вас своим отцом, а себя вашим сыном? Вы забыли, могу даже сказать, возненавидели меня. Раз вы написали, что я должен отказаться от всякого притязания на вашу родительскую любовь, как вы отказались от всех прав на мою покорность; с тех пор я как будто не существовал для вас. Но умер Альберт, и вы вспомнили обо мне, потому что вам нужен был человек, который мог бы занять место вашего любимого сына. Вы думали увидеть во мне невежду, дикаря и привезли какого-то профессора, чтобы сделать из меня орудие для ваших честолюбивых планов — и вы с изумлением заметили свою ошибку. Но знаете ли, кому я обязан своим образованием, знаете ли, кто заменил мне отца и мать своими советами?
— Клянусь, что нет, — отвечал граф.
— Это Роземонда, граф, которую вы сейчас оскорбили своими словами. Она образовала человека из вашего сына, которого вы едва не сделали скотом; она возвысила меня до степени нравственного достоинства; она, наконец, приготовила меня к суровым испытаниям, равно как и к высокому назначению.
— Я с удовольствием замечаю, Эверард, что вы владеете даром красноречия, — сказал Максимилиан, — Но, — прибавил он со злою улыбкою, — я давно уже угадал результат вашей чудесной речи, именно, что эта милая девушка наставляла вас, и я благодарен ей за то как нельзя более; между тем взамен ее уроков вы, конечно, давали ей другие. Вы не невежда, так, но она… ужели она все еще невинное дитя?
Роземонда хотела говорить, но слова замерли на ее устах; она была неподвижна и бледна как статуя.
— Граф, — возразил Эверард, затрепетав от гнева, — долго вы забывали, что вы мой отец; теперь, в свою очередь, я могу забыть, что я ваш сын.
— Вам так кажется? — сказал Максимилиан, приняв важный и гордый тон, — это будет очень любопытно. Успокойтесь, молодой человек, я приказываю; ваш гнев скоро потухнет пред моим; не горячитесь, это будет благоразумнее. Позволь мне потолковать с твоею Дульсинеею, которая, несмотря па свое состояние, мне кажется, занимается тем же ремеслом, как и герцогиня Д…
— Боже мой! — вскричала Роземонда, упав на пол.
— Клянусь адом! — закричал Эверард, бросившись за своею шпагою, которая с вечера оставалась в углу комнаты.
Потом, обнажив свою шпагу до половины, он подошел к графу, но, остановившись в двух шагах, опустил ее в ножны.
— Вы дали мне жизнь, — сказал он, — теперь мы расплатились.
Максимилиан, со своей стороны, схватил ружье. Отец и сын вперили друг в друга сверкающие от ярости глаза.
— Я дал тебе жизнь, говоришь ты? Это ложь, я не дал тебе ничего, и ты не обязан мне ничем, презренный, Обнажи твою шпагу. Нас обоих душит гнев: нам надо освежиться чистым воздухом, идем. А, трус, ты отступаешь… Ну, так я не отступлю…
Максимилиан подошел к двери и позвал четырех слуг, которых привел вместе с собою.
— Возьмите эту девчонку, — сказал он, — и выбросьте за мои владения.
Робкие слуги не трогались с места.
— Скорее, трусы! — закричал Максимилиан, замахнувшись бичом.
Слуги хотели подойти к Роземонде, но Эверард остановил их своею шпагою.
— Граф, — сказал он, — объявляю вам, что я, Эверард фон Эппштейн, буду следовать за этой девушкой, куда она ни пойдет, волею или неволею, понимаете?
— Очень рад, — отвечал Максимилиан. — Делайте, что приказано вам, негодяи! — прибавил он, обратившись к слугам.
— Граф, — сказал Эверард, подняв свою шпагу над Роземондою, которая еще лежала без чувств, — скорее я убью ее на ваших глазах, чем позволю прикоснуться к ней, клянусь вам.
— Ну, попробуй, остра ли твоя шпага. А! Ты опять трусишь? Возьмите эту женщину, или я сам выброшу ее вон.
— Граф, — вскричал Эверард, — берегитесь, я стану защищать ее против всех.
— Даже против отца? — сказал граф, положив ружье на руку.
— Даже против палача моей матери, — закричал Эверард.
Максимилиан с бешенством схватился за курок ружья и выстрелил.
— Матушка, матушка! Сжалься над ним, — вскрикнул Эверард и упал на пол.
Граф вздрогнул; смертельный ужас выразился в его лице; ему казалось, что перед ним явились тени умерших Альбины и Конрада. В самом деле, Конрад, возвратившийся из чужбины, вошел в дом егермейстера в ту минуту, когда граф прицелился в своего сына; он схватил руку Максимилиана и спас его от нового преступления: Эверард получил только легкую рану. Через несколько минут граф опомнился и бросил дикий взор кругом себя; он был в той же комнате, но с ним остался один Конрад и более никого, только кровавое пятно, видневшееся на полу, напоминало страшную сцену.
— Где Эверард? — спросил Максимилиан дрожащим голосом.
— В другой комнате, успокойтесь, он ранен только в плечо, и то не опасно, — отвечал Конрад.
— А Роземонда?
— Она пришла в себя и теперь помогает Эверарду.
— Но кто вы? Ужели мой брат Конрад? Как вы попали сюда и что значит этот мундир французского офицера?
— Да, я был некогда Конрад фон Эппштейн, а теперь генерал французской армии. Я расскажу о себе после.
— Так это не мечта, не сон? Но она? она?
— О ком ты говоришь, Максимилиан?
— О ней; она стояла возле Эверарда и грозила мне.
— О ком ты говоришь? — повторил Конрад.
— О! Я узнал ее, — продолжал Максимилиан с каким-то ужасом, — какой суровый, неумолимый взгляд! Напрасно умолял ее Эверард; нет более пощады!
— Я не понимаю тебя, брат, — возразил Конрад. — Только что Эверард просил меня передать тебе, что он прощает тебя и будет молиться за тебя.