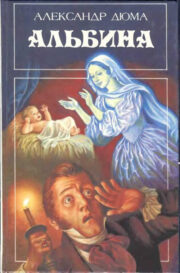Если мы оставим берега Майна и из угрюмого замка Эппштейн перенесемся в роскошные окрестности Вены, мы увидим там на очаровательной вилле Винкель Альбину фон Швальбах, прелестную шестнадцатилетнюю девушку, которая с детскою беззаботностью бегает по садовой аллее. В конце этой аллеи сидит на каменной скамье задумчивый герцог фон Швальбах и с отеческой нежностью смотрит на резвость своей дочери.
— Что стало с вами, папенька, в нынешнее утро? — спросила девушка, остановившись перед герцогом в ту минуту, как на его задумчивом лице скользнула улыбка. — Вы смотрите на меня с таким таинственным видом. О чем вы задумались?
— О том толстом пакете, запечатанном черною печатью, который, по твоим словам, отзывается поэзией средних веков, — сказал герцог.
— Если так, я не стану более и спрашивать о вашей тайне; наверное, этот достопочтенный пакет не имеет никакого ко мне отношения, — сказала девушка, намереваясь продолжить свою прогулку по саду.
— Напротив, самое прямое отношение, — возразил герцог. — В этом достопочтенном пакете только и слов что о моей резвушке.
Альбина остановилась, с изумлением устремив на отца свои Прекрасные глаза.
— Обо мне? — спросила она, приблизившись к отцу, — обо мне? Так покажите мне его, папенька. Что же тут говорится? Скажите поскорее.
— Просят руки одной девушки.
— Только-то? — произнесла девушка, надув губки.
— Как «только-то»! — возразил старик с улыбкой. — Ты с таким легкомыслием говоришь об этом важном деле!
— Но, папенька, вы наперед знаете, что я откажу. Все эти венские гуси, статские советники, тайные советники, причесанные и пустозвонные головы, решительно не нравятся мне и никогда не понравятся, не так ли?
— Но ты забываешь, что это письмо прислано издалека.
— Тем хуже: тогда надо разлучиться с вами, а я не хочу оставлять вас, не хочу! Не хочу! — повторила девушка, побежав за бабочкою, которая порхнула возле нее, как цветок, сорванный ветром.
— Лицемерка! — улыбаясь, произнес старик, когда его дочь снова явилась в конце аллеи, — ты скрываешь настоящую причину твоего отказа.
— Настоящую причину? — с удивлением повторила Альбина. — Какая это причина?
— Любовь, которая глубоко запала в твое сердце.
— Вы все шутите надо мною, папенька, — возразила Альбина, приблизившись к герцогу.
— Да, любовь, к несчастью, безнадежная, к Гетцу фон Берлихингену, к рыцарю с железною рукою, который, на беду, умер в царствование Максимилиана.
— Но воскрешен поэтом, папенька; он живет в драме Гете. Это правда, тысячу раз правда, наперекор вашим насмешкам, я люблю его, я обожаю этого простого и храброго героя, который любит так пламенно и поражает так сильно, как он ни стар, — а вы всегда говорили, что он старик, как будто подобные люди знают какой-нибудь возраст, — да, как он ни стар, а все-таки затмевает собою всех ваших придворных господчиков. Да, Гетц фон Берлихинген мой любимый герой.
— Дитя! Тебе только шестнадцать лет, а ты ищешь себе героя в шестьдесят лет.
— В семьдесят, в восемьдесят, если только он походит на моих храбрых рыцарей Рейна.
— В таком случае, моя милая Альбина, — сказал герцог, приняв более серьезный вид, — все устроилось, как будто нарочно, по твоему желанию: человек, который требует твоей руки, выкроен по мерке твоего героя.
— Какая злая шутка, папенька!
— Нет, правда, взгляни только на подпись письма.
Герцог вынул из кармана письмо, развернул его и указал Альбине на подпись.
— Родольф фон Эппштейн, — сказала девушка.
— Да, моя прекрасная амазонка. Он дрался во время семилетней войны не хуже рыцарей легендарного шестнадцатого века. Правда, он немножко стар, но что за важность, если только в семьдесят или в восемьдесят лет он походит па твоих героев. Родольфу фон Эппштейну только семьдесят два года.
— Ужели, папенька, вы думаете, — сказала девушка с веселою улыбкою, — что я так худо знаю свою Германию? Граф Родольф уже тридцать лет женат на сестре моей доброй тетушки.
— Ну, если нельзя обмануть твою ученость, надо признаться, что мои старинный друг просит твоей руки для одного из своих сыновей. К несчастию, ему только тридцать лет и у него еще мало седых волос, но будь спокойна, годы прибавятся, поседеют и черные кудри. Прибавь к этому старинный замок в горах Таунус, в нескольких милях от твоего любимого Рейна, замок, где рассказывают самую чудную легенду о какой-то графине, которая выходила из могилы.
— Какая это легенда, папенька? Вы знаете ее? — спросила девушка, в глазах которой заискрилось любопытство.
— Не совсем. Но твой жених расскажет тебе все подробно; я наперед объявлю ему, что это единственное средство завоевать твое сердце.
— Мой жених, папенька? Значит, вы согласны на этот союз?
— К сожалению, так, мое бедное дитя; я должен, скрепя сердце, лишить тебя удовольствия наслаждаться романтической любовью, — а как очаровательны эти сцены запрещенной любви, тайного брака и, наконец, прощения родителей, не правда ли? Но что делать? По старой дружбе с Эппштейнами я желаю этого брака. Ты скоро увидишь своего жениха и сама можешь судить о моем выборе.
— Как зовут этого искателя моей руки, который должен одушевить моего Гетца? — спросила девушка.
— Максимилиан, — отвечал герцог.
— Максимилиан. Это имя обещает многое. Максимилиан для врагов, но не для меня. Этот человек, железный в битвах, должен быть нежен в любви. Какая прелесть делать ручными этих львов и одним взглядом заставлять краснеть того, кто ужасает своею шпагою!
На другой день после этого разговора, в котором проявилась поэтическая мечтательность Альбины, Максимилиан фон Эппштейн приехал в Вену. Легко понять, что он скорее мог поправиться мечтательной Альбине, чем герцогу. Герцог — тонкий дипломат, который привык приподнимать маски, чтобы видеть истинное лицо, — нашел в Максимилиане более самолюбия, чем достоинства, более гордости, чем ума, более расчета, чем любви. Но Альбина смотрела на него сквозь поэтическую призму; его грубость казалась ей рыцарскою простотою, холодность — благородством. С детскою доверчивостью она высказывала ему свои мечты о героях, и Максимилиан старался подделываться под ее вкус; он высказывал глубокое презрение к протоколам и политическим трактатам, зато геройски бренчал своими шпорами и шпагою. Альбина попросила его рассказать легенду о замке Эппштейн. Максимилиан плохо изучал науку красноречия, но бойко владел языком; кроме того, он желал понравиться и потому рассказал историю своего замка так увлекательно, с таким чувством, что совершенно покорил романтическую девушку. Вот что говорило предание о замке Эппштейн.
Этот замок был построен в героические времена Германии, то есть в эпоху Карла Великого, каким-то графом Эппштейном. Из первоначальной его истории сохранилось только пророчество волшебника Мерлина, что каждая графиня фон Эппштейн, которая умрет в своем замке в рождественскую ночь, умрет только вполовину. Это пророчество долго оставалось необъяснимым, покуда не умерла жена одного германского императора, которая называлась Эрмангардою. Эрмангарда была соединена нежными чувствами дружбы с графинею Элеонорою фон Эппштейн, которая была ее подругою с самого детства. Несмотря на то что императрица жила в Франкфурте, а графиня в своем замке, за три или четыре мили от города, они виделись друг с другом очень часто, тем более что граф Сигисмунд, муж Элеоноры, занимал важный пост при дворе. Вдруг императрица умерла; это случилось ночью двадцать четвертого декабря 1342 года. Император, обожавший свою супругу, почтил ее останки всеми знаками своей глубокой грусти. Императрица, во всем царском украшении, с короною на голове и со скипетром в руке, была перенесена на парадном ложе в капеллу. Придворные, сменяясь через каждые два часа, должны были стоять у дверей капеллы, в которую друг за другом входили все лица, желавшие отдать последний долг покойной государыне. Каждый преклонял колено, целовал руку умершей и удалялся, уступая место другому. Прошло уже двадцать четыре часа со времени кончины императрицы, когда дошла очередь до графа Сигисмунда занять охранный пост у дверей капеллы. Часа через полтора после того, как он занял этот пост, к величайшему его изумлению, вслед за другими посетителями явилась графиня Элеонора. Это изумило графа, потому что никто еще не мог передать его жене печального известия о смерти императрицы. Элеонора, одетая в траурное платье, была бледна, как мертвец. Сигисмунд проводил ее в капеллу и затворил дверь. Граф понимал, что не обязанность этикета, а требование растерзанного сердца привело Элеонору к смертному ложу императрицы, и поэтому не удивлялся, что графиня оставалась в капелле более обыкновенного. Но прошло четверть часа, а графиня между тем все еще не выходила из капеллы. Это встревожило Сигисмунда; он боялся, что Элеонора не в силах будет вынести подавляющей горести. Не смея отворить дверей, потому что это было бы нарушением правил этикета, он наклонился, чтобы посмотреть в замочную скважину. Он страшился мысли, что увидит свою жену без чувств возле покойной ее подруги. Но, к его изумлению, вышло совсем не так. Холодный пот выступил на его челе, он стал бледен, как труп; эта заметная перемена в лице не ускользнула от взоров некоторых придворных, ожидавших своей очереди. «Что случилось?»— спрашивали они графа. «Ничего, — отвечал граф, потирая рукою лоб, — ничего, решительно ничего». Придворные снова занялись разговорами, а Сигисмунд, не доверяя самому себе, в другой раз нагнулся к замочной скважине. Теперь он был убежден, что зрение не обмануло его; он видел, что покойная императрица, с короною на голове и скипетром в руке, сидела на своем ложе и дружески разговаривала с Элеонорою. Сигисмунд сделался еще бледнее, чем прежде.