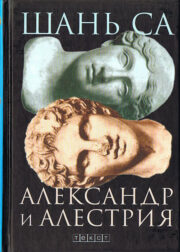Я смотрел во все глаза и видел на небе загадочные огни. Существа, похожие на бабочек, светлячков и птиц — прозрачные, непроницаемые, искрящиеся, — касались меня, присаживались на миг на плечо и тут же улетали.
Отец хотел сделать из меня воина. Мать повторяла как заклинание, что я — сын бога. Аристотель надеялся воспитать милосердного и справедливого правителя. Я не желал становиться ни одним из трех Александров.
Написанные на папирусе книги поведали мне о пирамидах, сфинксах и кораблях с багряными парусами. Моей судьбой станут океаны, пустыни, леса, горы и вулканы.
Без Гомера мир не узнал бы о подвигах героев. Без него цари не ведали бы бессмертия. Я, Александр, разрешусь грандиозными пейзажами, величественными городами и выдающимися соратниками. У них будет оружие, какого никто прежде не имел, великолепные лошади и особый язык. Они отправятся покорять солнце. В бешеной скачке они забудут и голод, и жажду. Им будут неведомы слухи и наветы. Они забудут о покоренных городах и разбитых сердцах. Они полетят, обгоняя друг друга, все быстрее и быстрее, чтобы добраться до края земли.
Я стану поэтом.
Мое тело менялось. Мое тело причиняло мне страдания. Я стоял, обнаженный, на берегу реки, и меня смущало внимание плескавшихся в водопаде солдат. Я больше не был хрупким, как девочка. Мои плечи, бедра и ягодицы налились мускулами благодаря тренировкам. Лицо, обрамленное каштановыми локонами, утратило детскую округлость. Я бросился в воду, чтобы спрятаться от нескромных взглядов. Гефестион прошептал, что командир фаланги приглашает нас поучаствовать в водном сражении. Мною овладели стыд и возмущение, и я кинулся бежать вдоль берега. Качался под ветром тростник, стрижи пикировали на воду и тут же вспархивали вверх, укрываясь в ветвях деревьев. У меня в душе поселилась невыразимая боль. Что-то должно было произойти, я предчувствовал это с ужасом и восторгом.
Гефестион неусыпно следил за мной и, если я заговаривал с другими, начинал злиться, дулся целыми днями, но всегда возвращался. Другие воспитанники школы, те, что вечно насмехались надо мной, теперь искали возможности угодить, поддавались в поединках и по очереди просили потереть им спину в банях. Только Кратерос продолжал задираться, плевал мне в лицо, старался ударить побольнее. Его безразличие заводило меня. Я вился вокруг него, улыбался, бросал пылкие взгляды, приводя Гефестиона в ярость. Двое юношей схватились безо всякой видимой причины, в воздухе сверкнули мечи, они были готовы убить друг друга. Я стоял, прислонясь к колонне, и равнодушно наблюдал за поединком.
Я понял, что красив. Я отличался от этих юношей, рожденных для военных походов и убийств, у меня не было ничего, кроме красоты, чтобы защитить себя, чтобы быть принятым в мир мужчин. Я старался понравиться всем, кого встречал на своем пути. Нравиться — значит уклоняться и подавлять.
Я понял, что изменился, в тот день, когда вернувшийся из похода в Пеллу Филипп молча взглянул на меня и, против обыкновения, не произнес ничего оскорбительного. На пиру он усадил меня рядом с собой и осыпал похвалами. По его приказу в зал привели ослепительно белого жеребца Буцефала. Это был воистину царский подарок.
Филипп велел мне позировать обнаженным его скульпторам. Под их умелыми руками глина становилась ртом, локонами, торсом и бедрами. Я сливался воедино с солнцеликим Аполлоном. Мы сделаем так, что в Македонии и Греции будет торжествовать закон совершенства. Филипп являлся взглянуть, как продвигается работа, ходил вокруг статуи, покидал мастерскую, возвращался и застывал в созерцательной позе.
Он молил меня о поцелуе. Требовал раскрыть ему объятия. Наседал на меня, едва не душил, падал на колени, когда я с негодующим криком его отталкивал. Мой отказ доводил Филиппа до пароксизма желания. Он осыпал меня дарами. Звал на все пиры и празднества. Называл будущим царем Македонии, сажал рядом с собой на трон, наливал вино с услужливостью влюбленной женщины.
Все это мне льстило, но и вызывало омерзение. Его страсть смягчала мою ненависть, одновременно распаляя ее. Я ощущал невероятное презрение к человеческому телу и людям, одержимым плотью. Я не знал, что во мне нарождалось, не понимал, сила это или слабость, но одно не вызывало сомнений: у моей красоты есть цена и я стану высшим существом, если я научусь ею пользоваться.
Все было предметом торга! Я отдавал, только если получал что-то взамен. Филипп — царь, ни в чем ни от кого не знавший отказа, втянулся в игру, где мы поменялись ролями. Я стал его тираном, он упивался своим порабощением. Чтобы увидеть меня обнаженным, ему приходилось бросать к моим ногам золотую посуду, оружие, драгоценности — все сокровища, которые он силой отнял у греков, проливая свою и чужую кровь, рискуя жизнью. Очень скоро мне это надоело. Я смотрел на золото с пренебрежением. Мое недовольство возбуждало его еще сильнее, он был готов на все ради моей улыбки.
Я сумасбродничал, требуя в подарок трехрогого быка, египетскую мумию, засушенную голову, эмбрион, извлеченный из утробы взятой в плен невольницы. Когда игра мне надоедала, я уподоблялся сошедшему с небес Аполлону и равнодушно отдавался царю и его сотоварищам. За долгий поцелуй Филипп обещал мне трон. Я безумствовал, но пустоголовым мечтателем никогда не был.
От Филиппа я хотел унаследовать одно — его силу.
Я ждал.
Художники, неустанно ищущие образец божественной красоты, забыли о крепких телах атлетов ради моего мускулистого изящного тела и тонких черт моего лица.
Я смотрелся в зеркало и не видел в нем ни робкой девочки с косами, ни маленького грустного мальчика, мечтавшего стать Гомером. На меня смотрел юный принц с гордым орлиным носом и твердым подбородком. У принца были большие наивные зеленые глаза, зачаровывавшие могучих македонских воинов, и восхитительно свежие губы, предмет вожделений всех греков. Сильные плечи, выпуклая грудь, тонкая талия, упругий живот и мускулистые ягодицы имели гармоничные очертания и мягкие, как у женщины, пропорции. Превратившись в произведение искусства, я стал всеобщим достоянием, недостижимым для сонма смертных.
Возможно ли, что порок и преступления сделали мое тело совершенным? Одержимый ненавистью, терзаемый жаждой мести, привыкший к пыткам, хохочущий над трупами, обезглавленными себе на потеху… как мог я выглядеть таким чистым?
Неужто лицо человека — всего лишь маска Комедии, прикрывающая трагедию души, а тело — мраморная статуя, служащая людям и богам?
С Аристотелем я вел себя как усердный и умный ученик. С отцом — как палач и шлюха. С товарищами по школе — как властный хозяин и угодливый любовник. В отношениях с Гефестионом я уподоблялся ревнивой женщине, осыпая его упреками, чтобы заставить страдать.
Я привык к своей многоликости. На свете существовало ровно столько Александров, сколько было влюбленных в меня, околдованных моим лицом мужчин и женщин.
Парис похитил Елену, и греки десять лет воевали с троянцами. Ахилл убил Гектора и сам был убит. Побежденному Приаму перерезали горло, а победителя Агамемнона убила собственная жена. Красота — вечная добыча силы. Из мохнатой гусеницы я превратился в прекрасную бабочку. Я как щитом заслонился образом маленькой беззащитной девочки. Моя красота укротила Филиппа. Моя красота заставила юношей драться друг с другом и давать обеты верности. Моя красота заставляла плакать Гефестиона и обманывала Аристотеля. Она выставляла себя напоказ, предлагала, ускользала, тревожила.
Красота была моим оружием, и я ее ненавидел.
Ненависть к красоте была моей броней. Отвращение к себе делало меня нечувствительным к боли.
Филипп приучил меня шпионить, Олимпия — строить заговоры. Я недрогнувшей рукой убивал по приказу царя любовников, которых он подозревал в измене. Я учился быть безжалостным, чтобы защитить свое нежное девичье сердце и мечтательную душу поэта.
Я плохо спал и по утрам чувствовал себя измученным и разбитым. Я позировал обнаженным — художники должны были увековечить и явить народам идеал красоты и совершенства. Я буду управлять миром уродства и жестокости с помощью лучезарном улыбки и безмятежного взора. Все в Пелле стали моими любовниками. Все были моими рабами. Все хотели умереть за меня, все клялись отдать за меня жизнь.
Угодливость и бессильные слезы матери выводили меня из себя. Теперь я ненавидел ее сильнее, чем когда-то Филиппа. Покуда моя мать жива, я буду помнить, что она превратила меня в орудие борьбы с мужем-тираном. Где бы я ни находился, она пребудет в моей душе и не устанет изливать горечь и обиды на мужчин. Мать знала мою тайну. Она была зеркалом, в которое я смотрелся и ужасался своему отражению.