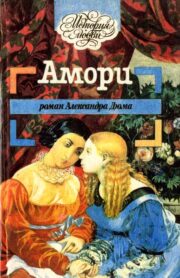Другая девушка, с черными, заплетенными двойной косой волосами, обрамлявшими ее розовое лицо, со сверкающими глазами, с пурпурными губами; ее движения были живыми и решительными, она казалась одной из тех девушек с золотистым цветом лица, которых Боккаччо собирает на вилле Пальмиери, под солнцем Италии, чтобы слушать веселые сказки Декамерона[34]. В ней светились жизнь и здоровье, ум искрился в ее взгляде, а иногда и грусть — ибо не бывает таких веселых лиц, которые не омрачались бы время от времени, — но даже печаль не могла скрыть приветливого выражения ее лица. В ее меланхолии можно было разглядеть улыбку, как сквозь летнее облако можно чувствовать солнце.
Таковы были эти две девушки, склоненные одна напротив другой над одним вышиванием, а под их иголками появлялся букет цветов, в котором каждая осталась верна своему характеру: одна создавала белую лилию и бледные гиацинты, в то время как другая оживляла букет тюльпанами, медвежьим ушком и гвоздиками ярких и веселых тонов.
Мгновенно окинув все это взглядом, Амори толкнул дверь.
Обе девушки повернулись на шум открывшейся двери и слабо вскрикнули, как две напуганные газели; живой, но мимолетный румянец алого цвета покрыл лицо девушки со светлыми волосами, в то время как ее подруга чуть заметно побледнела.
— Я вижу, что ошибся, не приказав доложить о себе, — сказал молодой человек, подойдя поспешно к блондинке и не обращая внимания на ее подругу, — поскольку я вас напугал, Мадлен. Извините меня, но я, считая себя приемным сыном господина д'Авриньи, всегда веду себя в этом доме, как один из членов семьи.
— И вы поступаете правильно, Амори, — ответила Мадлен. — Впрочем, если бы вы и захотели вести себя иначе, то у вас не получится, я думаю: нельзя потерять за шесть недель привычки восемнадцати лет. Но поздоровайтесь же с Антуанеттой.
Молодой человек, улыбаясь, протянул руку брюнетке.
— Извините меня, — сказал он, — дорогая Антуанетта, но я должен был сначала попросить прощения за свою оплошность у Мадлен: я испугал ее и, услышав крик Мадлен, подбежал к ней.
Затем, повернувшись к гувернантке, сказал:
— Миссис Браун, приветствую вас…
Антуанетта улыбнулась с легкой печалью, пожимая руку молодого человека, и подумала, что она тоже вскрикнула, но Амори этого не услышал.
Что касается миссис Браун, — она ничего не видела, или, скорее, видела все, но взгляд ее оставался бесстрастным.
— Не извиняйтесь, граф, — сказала она, — будет хорошо, напротив, если все будут поступать так, как вы, чтобы излечить это прелестное дитя от ее безумных страхов и внезапного вздрагивания. Знаете, с чем это связано? С ее мечтами. Она создала свой мирок, в который она прячется, как только ее перестают поддерживать в реальном мире. О том, что происходит в ее мирке, я ничего не знаю, но, я думаю, если так будет продолжаться, она покинет один из миров для другого, и тогда мечта станет ее жизнью, в то время как ее жизнь будет мечтой.
Мадлен подняла на молодого человека долгий и мягкий взгляд, который, казалось, говорил:
— Вы знаете, о ком я думаю, когда мечтаю, не правда ли, Амори?
Антуанетта увидела этот взгляд; она постояла, раздумывая, но вместо того, чтобы приняться за работу, села за пианино и, опустив пальцы на клавиши, заиграла фантазию Тальберга[35].
Мадлен принялась за работу, и Амори сел возле нее.
II
— Какая мука, дорогая Мадлен, — сказал совсем тихо Амори, — в том, что мы теперь так редко бываем наедине. Это случайность или это приказ вашего отца?
— Увы, я ничего не знаю, друг мой, — ответила девушка, — но верьте, что я страдаю, как и вы. Когда мы виделись каждый день и каждый час, мы не понимали нашего счастья; как часто бывает, нам понадобилась тень, чтобы сожалеть о солнце.
— Но не можете ли вы сказать Антуанетте или по крайней мере дать ей понять, что она окажет нам большую услугу, удаляя время от времени миссис Браун, которая остается здесь скорее по привычке, чем из предосторожности, и которая, я думаю, не получала приказа наблюдать за нами.
— Я тоже так думаю, Амори, и я не могу понять, в чем дело, но какое-то непонятное чувство меня сдерживает. Как только я открываю рот, чтобы поговорить о вас с моей кузиной, я теряю голос; однако что я могу сообщить ей нового? Она знает прекрасно, что я вас люблю.
— И я тоже, Мадлен, но мне нужно, чтобы вы говорили это вслух, а не шепотом. Я счастлив вас видеть, но мне кажется, что лучше лишиться этого счастья, чем видеть вас среди посторонних, холодных и безразличных людей, которые вынуждают вас скрывать ваш голос и кривить душой, а я не могу вам сказать, как я страдаю от этой скованности.
Мадлен встала, улыбаясь.
— Амори, — сказала она, — хотите помочь мне срезать в саду букет цветов? Я начала рисовать букет, и так как вчерашний завял, я хотела бы составить новый.
Антуанетта живо поднялась.
— Мадлен, — сказала она, обменявшись с подругой взглядом, — тебе не нужно выходить в такую сырую и холодную погоду. Поручи это мне, и я справлюсь, мне это доставит удовольствие.
— Моя дорогая миссис Браун, — продолжала она, — доставьте мне удовольствие, возьмите в комнате Мадлен букет, который вы найдете на маленьком круглом столе Буля[36], в японской вазе, и принесите мне его в сад. Только видя его, я смогу составить такой же.
При этих словах Антуанетта через одно из окон гостиной, служившее дверью, вышла в сад, в то время как миссис Браун, не получавшая никакого приказа по поводу молодых людей и знавшая о том, что их связывало с детства, вышла, не возражая, через боковую дверь.
Амори следил глазами за доброй гувернанткой, затем, очутившись наедине с девушкой, схватил ее за руку.
— Наконец-то, дорогая Мадлен, — сказал он с выражением самой горячей любви, — наконец-то, мы одни. Поторопитесь посмотреть на меня, сказать мне, что вы меня любите, так как после странного изменения отношения ко мне вашего отца я начинаю сомневаться во всем. А что касается меня, вы знаете, что душой и телом я ваш, вы знаете, как я вас люблю.
— О, да! — сказала девушка со счастливым вздохом, поднявшим ее стесненную грудь. — О, скажите мне, что вы меня любите; мне кажется, что такому хрупкому созданию, как я, ваша любовь поможет жить. Видите, Амори, когда вы рядом, я дышу и чувствую себя сильной! До вашего приезда и после вашего отъезда мне не хватает воздуха, а вы так часто отсутствуете с тех пор, как не живете больше с нами. Когда я буду иметь право не расставаться с вами, ибо вы — мое дыхание, моя душа?
— Послушайте, Мадлен, что бы ни случилось, сегодня вечером я напишу вашему отцу.
— И что может быть дурного в том, что наши детские планы наконец осуществились бы? С тех пор, как вам исполнилось двадцать лет, а мне шестнадцать, не привыкли ли мы чувствовать себя предназначенными друг другу? Напишите моему отцу, Амори, и вы увидите, что он не будет сопротивляться с одной стороны — вашему предложению, с другой стороны — моей просьбе.
— Я хотел бы разделить вашу уверенность, Мадлен, но, действительно, с некоторого времени ваш отец странно изменился по отношению ко мне. Обращаясь со мною в течение пятнадцати лет как с сыном, с некоторых пор, мне кажется, он стал видеть во мне чужого. Будучи в этом доме вашим братом, не заставил ли я вас вскрикнуть, когда вошел без доклада?
— А! Этот крик, это был крик радости, Амори. Ваше присутствие никогда не застает меня врасплох, я жду вас всегда, но я такая слабая, такая нервная, что не могу скрыть своих чувств. Не нужно обращать на это внимания, мой друг, со мной следует обращаться, как с той бедной мимозой, над которой мы смеялись, мучая ее когда-то, не думая, что у нее своя жизнь, как и у нас, и что мы ей причиняем боль. Я — как она, ваше присутствие мне доставляет удовольствие, такое же, какое я испытывала прежде на коленях у моей матери. О, Боже, взяв ее у меня, он дал мне вас. Своей матери я обязана жизнью, своим первым рождением, вам — вторым. Она меня дала миру, вы возродили мою душу. Амори, чтобы я была вашей, смотрите на меня чаще.
— О! Всегда, всегда! — закричал Амори, схватив руку девушки, прижавшись к ней горячими губами. — О! Мадлен, я тебя люблю, я тебя люблю!
Почувствовав поцелуй, бедная девушка начала лихорадочно дрожать и, положив руку на сердце, сказала: