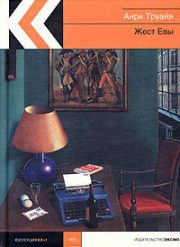– Ты так далеко, Анн, – сказал он. – Устраивайся поближе.
– Мне надо идти.
– Почему?
– Уже два часа.
– Знаю, но ты можешь еще остаться или нет?
Она изобразила губами воздушный поцелуй.
– Нет, Лоран, все. Оставь меня…
Но он протянул к ней руки. Его взгляд призывал и требовал, нежно и капризно. Перед глазами вспыхнула молния, и Анн поняла, что переоценила свои силы, вся ее решимость была иллюзорной. И еще – она встретится с ним и завтра, и послезавтра, в общем, так часто, как захочется того ему, и как только сможет она. Он схватил ее кулаки, заставил пересесть на край кровати, обнял и опрокинул навзничь.
Кран по каплям стекал в раковину.
Анн повторила:
– Нет, Лоран.
Но мир уже проваливался в пылающую сумятицу.
Она спустилась к себе в половине четвертого утра. Что за сумасбродство? А если бы ее тем временем позвала Мили? Слабый кашель за дверью. Анн вошла в комнату.
– Что, Мили? Ты не спала?
– Да нет… Только что проснулась.
– Тебе нужно судно?
– Я не знаю… Наверное, да…
7
Опустошенная рвотой, икая и заливаясь слезами, Эмильен откинулась на подушки. Анн протерла ее лицо влажным тампоном и поставила тазик на пол. Беспокойно взглянула на мать и взяла ее руку: пульс был редким и неровным, но лицо расслабилось, рецидив не наступил. По крайней мере, пока.
– Теперь ты сможешь поспать, – сказала она матери.
– Да, – вяло откликнулась Эмильен, – но по комоду ползает столько гусениц… Их нужно прогнать… иначе они переползут ко мне на кровать.
В последние две недели у нее участились галлюцинации. А также страх – и она крутила по подушке головой, издавая сквозь стиснутые зубы тихие стоны. Почти ничего не ела, только пила, да и то лишь изредка. Настойчивые вопросы Анн вынудили доктора Морэна признаться, что следует ожидает скорой развязки. Он посоветовал снова увеличить дозу, но изношенный организм к наркотику был равнодушен. Ноги больной отекли настолько, что уколы приходилось делать в руки.
– Прогони гусениц, – снова пожаловалась Эмильен капризным голосом.
– Хорошо, Мили. – И помахала рукой, будто что-то сметает с комода. – Ну вот, их больше нет, – сказала она. – Спи, я останусь, чтобы они не вернулись.
– Да, останься… – Эмильен закрыла глаза.
Анн устроилась рядом в кресле и укутала себе ноги пледом. Она коротала у изголовья матери уже третью ночь подряд. Отец подменять ее не мог. Конечно же, с самого начала он ей это предложил, но ее отказ от чьей-либо помощи был таким резким, что ему пришлось смириться с ролью пассивного свидетеля. Болезнь супруги приводила его в отчаяние, однако он продолжал спать сном праведника. Анн могла бродить взад и вперед по комнатам, зажигать везде свет, греметь кастрюлями – ничто не мешало ему. Железное здоровье и непосредственность состарившегося испорченного ребенка. Одиночество Анн перед надвигающейся смертью матери было абсолютным. Она самоотверженно и непреклонно пожелала этого сама, из любви к Мили. В жизни не осталось ничего более значимого, нежели эта жуткая неотвратимость распада. Даже Лоран как-то съежился в ее мрачном отсвете. Время от времени Анн поднималась в его комнату. Всегда доступный и изголодавшийся, он ожидал ее в своем логове, расстилаясь ковром под ее ногами. Казалось, весь смысл его бытия сводился к подкарауливанию шагов Анн в коридоре. Он хватал ее на пороге, а дальше – несколько фраз, короткие и быстрые ласки, и она вновь ныряла по лестнице вниз. Мили была настолько плоха, что ее нельзя было оставлять одну больше часа.
Анн позвонила в издательство, договорилась об отпуске, и время для нее остановило свой бег. Между нею и матерью – никого. И смерть целиком принадлежала ей одной. Смежив веки, открытым ртом Мили исторгала из груди свистящие хрипы. Ее длинные руки покоились по обеим сторонам тела и напоминали затянутые в атлас кости. А само тело стало тонким, словно пустой пакет: покрывало ниже плеч не обозначало ни малейшего выступа. Хотя нет, в самом низу все же угадывались ступни. И эти бренные останки упорно продолжали цепляться за жизнь! Хотя какая там жизнь? Так, страдания… А что потом? Небытие… И ей остается лишь присутствовать на этой каждодневной пытке, сложа руки. И ждать. Ждать, когда природа, в свое время из любви, милосердия, здравого смысла, наконец, создавшая этот шедевр, решит оборвать его жуткую агонию. Как же мог допустить Господь, чтобы непереносимая боль грызла Мили так медленно и так долго? И если он допускает такую огромную, такую слепую несправедливость, неужели нужно и дальше склонять перед ним голову? Все же случаются в жизни моменты, когда бунт человеческий необходим и свят! Чтобы изменить судьбу. Продиктовать свою волю. Во благо дорогого тебе существа. Достаточно лишь увеличить дозу морфия, и Мили навсегда уснет. Спокойно и надежно. С благодарностью. Анн думала об этом сотни раз, но никогда раньше – с такой трагической настойчивостью, как этой ночью. Ей казалось, что она говорит об этом в голос. Но нет, это просто мысли, бродя в голове, вызывали звуковые галлюцинации. Каждый вздох отзывался болью в сердце.
Широко раскрыв глаза, Анн оцепенела перед зловещей неподвижностью окружающих предметов: ночник в изголовье с наброшенным на него платком из розового шелка, комод с кипой глянцевых журналов, матовый экран телевизора, груда пузырьков на столе и сколотые булавкой, совершенно бесполезные рецепты… Привычный быт должен был бы придавать ей уверенности, но странным образом только усиливал ее беспокойство. Она застряла посреди кошмара, в котором тени властвовали над вещами, где тишина значила больше самих звуков. Мозг будто окутало туманом. Анн сжала челюсти, напрягла плечи, но внезапно потрясшими тело рыданиями всю ее оборону разметало на куски, а лицо залило потоком слез. Она зарылась лицом в ладони и чем сильнее сдерживалась, тем легче уступала засасывающей ее тоске. В ночной тишине раздался короткий звонок – такой смиренный, словно его едва коснулись. Затем еще один. Звонили от служебного входа. Анн взглянула на мать, вытерла слезы и прошла на кухню. Она уже знала, кого застанет за дверью. Нелепо, но она сама впустила в свою жизнь это безответственное и необузданное животное. Теперь нужно гнать его прочь, наверх, в его нору.
Анн открыла дверь и обомлела от радости. Да, это был Лоран, со своей неуклюжей нежностью на физиономии.
– Что случилось, Анн? – спросил он. – Ты плакала?
Она отступила на шаг и, прислонясь спиной к стене, прошептала:
– Нет, но ты не должен приходить!
Лоран привлек ее к себе и закрыл за нею дверь на кухню.
– Там, наверху, я схожу с ума! Что ты с собой делаешь? Хватит – в тебе ни кровинки не осталось! Тут сиделка нужна.
– О нет! – вскрикнула она. – Никто, кроме меня, не будет ухаживать за Мили!
– Но почему, Анн?
– Я не хочу, чтобы хоть кто-нибудь посторонний дотрагивался до нее. Она моя! Эти последние мгновения… ты понимаешь? Я должна прожить их с ней… наедине… Это… это всего важнее… Тебе нельзя оставаться, Лоран… Уходи… Уходи, быстрее! Может войти отец!..
– Да при чем здесь отец, когда есть твоя умирающая мать и есть мы, и мы друг друга любим?
В душе Анн понимала, что все эти условности смешны и в мире существуют только две святые правды: любовь и смерть. Он нежно поцеловал ее в лоб.
– Анн, маленькая моя Анн, – сказал он, – мне хотелось помочь тебе, быть рядом с тобой, разделить с тобой все.
Его взгляд – взгляд умной собаки – тронул ее.
Лоран принадлежал ей полностью. Душой и телом.
И Анн заупрямилась:
– Нет, Лоран. Я хочу остаться одна.
Она подтолкнула его к выходу. Вместо того чтобы уйти, он торчал в дверном проеме.
Анн прикрыла дверь, прогнала его из своей жизни.
И вернулась к матери.
Голова Эмильен съехала с подушки. Слабой и непослушной рукой она пыталась сбросить с себя простыню. Левая нога свесилась с кровати, Анн осторожно вернула ее на место. Мили обнажила зубы в каком-то подобии улыбки. Из-под мятых век потекли слезы:
– Мне больно, Анн. Я так больше не могу…
От жалобного стенания матери Анн затрясло. Она не хочет больше этого слышать. Никогда.
– Где у тебя болит, мама?
Эмильен ничего не ответила, лишь со стоном запрокинула голову на подушку. Изнутри ее глодало какое-то чудовище. Хватит! Довольно! Анн решительно подошла к столику со шприцем. Руки ее тряслись. «Действовать надо сейчас же. Если я еще подожду, то уже не смогу. Она слишком страдает. А что могу я ей предложить взамен? Откуда мне знать, чем обернется эта ночь? Господи боже мой, помоги мне! Нет, нет, не Бог!.. Я и только я! И быстро!»