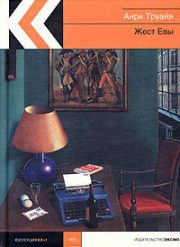Она схватила ампулу с морфием и надпилила у нее отросток. Пальцы ее не слушались. Ампула опрокинулась, часть содержимого вылилась на пол. Все, что оставалось в ампуле, Анн вобрала в шприц. Жидкость по стеклянному цилиндру затекла вверх. Смертоносная, чистая, прозрачная. Еще ампула. Точный укол, и игла, принуждаемая поршнем, выпила весь яд. Рука Анн разжалась и выбросила добычу. Другая ампула, и еще одна. Доктор Морэн просил не превышать дозу, однако сейчас шприц был полон, шток поршня вышел наружу почти полностью. Внутри ни капли воздуха. Все готово. Никакой ваты, никакого спирта. «Мама, прости!» Это безмолвное восклицание взорвалось в голове Анн, и она чуть не лишилась чувств. Опорожнить шприц в раковину и все забыть? Нет! Усилием воли она склонила себя над кроватью. «Давай! Сейчас… теперь…» Она бредила… И, взяв руку Эмильен, очень осторожно ее подняла. Такую сухую, такую легкую. В коже цвета слоновой кости, каждый сантиметр которой ей был дороже ее собственной. Она ввела иглу. Мили не дрогнула. Анн всем своим телом почувствовала этот укол. Укол в самое сердце – она закусила губы, чтобы не закричать.
Поршень выгонял из шприца жидкость, но как же медленно уменьшается ее уровень.
Да, она сейчас сойдет с ума…
Несколько последних капель…
Четким движением Анн вытащила иглу. Ноги ее подкосились. Она уложила голову Мили на середину подушки.
– Ты сделала мне укол, – прошептала Эмильен, не открывая глаз. – Спасибо, моя дорогая…
Анн взяла себя в руки и тихо ответила ей:
– Теперь, Мили, все будет хорошо. Тебе нужно уснуть.
– Ну, что ж… ты хочешь, чтобы я спала… Только дай мне руку… крепче сожми ее…
Разбитая Анн рухнула в кресло у изголовья кровати и взяла в свою руку узкую ладонь той, кто покидала ее. Ей показалось, что Мили хитровато улыбнулась. Словно она обо всем догадалась и все одобряла. Но затем вялое подобие счастья стерлось с материнских губ. Началось нескончаемое ожидание, в тишине и неподвижности, и единственными свидетелями его выступали лишь только предметы вокруг.
Глядя на застывшее лицо Мили, Анн чувствовала, как медленно остывает и ее собственное тело. Мозг отяжелел, налившись свинцовой тяжестью. Она позабыла отца, Лорана… Осталась одна, наедине со своим действом, и у этой ночи не будет конца. «Какая же она теперь спокойная… Но достаточно ли морфия я ей ввела? Почему не наступает смерть? Как долго, как же это все долго!»
Погрузившись в коматозный сон, Мили храпела полуоткрытым ртом, и казалось, что в этом чахлом теле перед тем, как навсегда остановиться, с перебоями работает целый завод. Внезапно в горле Эмильен раздалось жуткое бульканье, потом послышался глубокий вдох. Глаза ее округлились так, что казалось, они вот-вот вывалятся, и невообразимо широко раскрылся безмолвный рот.
И так же внезапно все закончилось.
Черты лица застыли, но рот и глаза так и не закрылись.
– Мама!..
Анн рухнула поверх неподвижного тела. Она рыдала и прижимала к груди все еще теплую голову, покрывая поцелуями лоб и щеки, которые уже ничего не ощущали. Чуть погодя она взяла себя в руки и закрыла умершей глаза, а потом и рот, повязав ее каким-то платком. Казалось, Мили просто уснула. Свободная, безмятежная, исцелившаяся. Анн опустилась в кресло и, вжавшись в спинку, с любовью и удивлением рассматривала лежавшую на кровати безразличную ко всему женщину, для которой, похоже, теперь начиналась совсем другая история.
8
Анн лежала между сбившихся в груду подушек. Она только что проснулась, будто от толчка. Вот уже две недели подряд каждую ночь, в одно и тоже время, ее вырывало из сна одно и то же не проходящее видение. Она в сотый раз делала в руку Мили тот укол. Игла под кожей – и нескончаемое испражнение жидкости шприцем.
Любить кого-то – значит быть готовым на все, даже на невозможное, только бы избавить его от страданий. Даже если при этом придется взять на себя ужасающую ответственность. Страдания Мили закончились, но теперь начались ее собственные. Не физические, моральные. И нет такого наркотика, которым можно было бы их заглушить.
Будь Анн набожна, возможно она, и не совершила бы этого поступка. Осторожная трусость верующих всегда находит опору в правилах, позволяющих избежать принятия решения и следующей за тем пытки угрызениями совести. Где теперь красивая, властная, очаровательная Эмильен? В могиле, под свежим земляным холмиком? Или там, в загадочном ангельском краю, под сияющими лучами некого Бога, которого она ни о чем не просила? Или здесь, где она жила в сердцах тех, кто ее любил?
Да, да. Ее присутствие в доме было неоспоримо. В нем тонким слоем она покрывала все предметы, ею был подогрет воздух. Здесь она, подобно легкому хмелю розового вина, продолжала дурманить их разум.
Приготовления, отпевание и погребение обернулись жуткой комедией и не смогли убить ее. Просто за черной драпировкой с серебряной каймой она оказалась наедине с собой, в прежней своей жизни. Чего и не смог понять отец, подумала Анн. Для него с последним вздохом жены закончилось все.
Отчаяние его подле усопшей было столь чрезмерным и театральным, что его даже пришлось одернуть. Он кричал и падал на Эмильен, целовал ее холодные губы, дрожащими пальцами пробовал приподнять ей веки. Позже, расталкивая служащих похоронного бюро, мешал закрывать крышку гроба. В церкви при отпевании чуть было не упал в обморок, опустившись на скамью с потухшими глазами и отвисшим подбородком. А на кладбище? Беспрерывное блуждание на подкашивающихся ногах, или тот рывок к краю могилы: «Оставьте меня… Я хочу уйти вместе с ней!»
Анн до сих пор не могла забыть, как ее обожгло стыдом. Когда они вернулись домой, отец заперся в ванной, захватив с собой из домашней аптечки все медикаменты.
Встревоженная Луиза, вытаращив глаза, с трясущимися губами просила Анн вмешаться – и как можно быстрее:
– Мсье в таком состоянии, что способен на большую глупость! Умоляю вас, мадемуазель, сделайте что-нибудь!
В какой-то момент Анн и сама испугалась, как бы чего не случилось, но потом рассудила, что непереносимые, скрытые от чужих глаз страдания напоказ не выносят. И действительно, минут через двадцать Пьер вышел из ванной успокоенным, с вымытым лицом и расчесанными волосами и лишь молча плакал. Ей было жаль его – правда, с некой долей брезгливости. В последующие дни он впадал в оцепенение, часами просиживая в кресле с застывшим взглядом, скрестив руки на коленях. Он едва притрагивался к пище, не допускал никаких разговоров, не помышлял о газетах или книгах.
Подобное отупление для Анн неожиданным не было, и все же она за него волновалась. Что делать, если отец поддастся этой развивающейся, напоминающей болезнь прострации? Хорошо ей было его критиковать. Как-никак у нее есть интересное дело. Уже через два дня после похорон она заглушала свою тоску, крутясь в издательстве вдвое больше обычного. А он? Быть может, ему было бы проще перебороть свое смятение, уцепись он за какое-нибудь дело? Чтобы спокойно бездельничать с утра до вечера, нужно быть молодым. Например, как Лоран…
Через хитроумные выверты ее мысли снова вернулись к юноше. Она улыбнулась той непринужденности, с которой он, при малейшей возможности, напоминал о себе. Он явился на похороны. Затем исчез, совсем. Что это было? Деликатность? Бесцеремонность? Или ему надоели ее семейные проблемы?
Ей хотелось, чтобы все оставалось именно так, их связь была сегодня неуместна и опасна. Анн смогла бы прогнать его из своей комнаты. Потому что все меньше и меньше нуждалась в нем. Горе убило в ней всякую фантазию и всякое желание. Даже мысль об удовольствии, недавно познанном в красноватых отсветах, казалась ей ужасной. Внезапно и как-то сразу Анн постарела и вместо своих тридцати лет обрела возраст Мили с его отрешенностью, благоразумием и холодностью.
Она уснула, как только удалось опорожнить свой мозг. Ее голова покоилась на подушках, тело утопало в кипе простыней, а ласковый и медленный поток уносил ее к морю.
Проснулась она позже обычного. Было воскресенье. На что истратить этот длинный день? В комнату пробивался нежный и кроткий свет. Пьер еще спал. Одевшись, Анн ощутила на собственных плечах тяжесть застывшего времени. Ей вдруг показалось, что если она не заставит крутиться в доме все колесики, они поломаются – все разом и навсегда. Каждое воскресенье, поднявшись раньше остальных, Мили убегала в булочную за горячими круассанами. Когда Анн и Пьер, еще в пижамах, приходили в гостиную, на столике для бриджа уже был накрыт завтрак, а на тарелке холмиком красовались шесть маленьких белых хлебцев из слоеного теста. Пьер неизменно восклицал: «О, круассаны!», а Мили так же неизменно отвечала: «Ну так воскресенье же!» С наступлением погожих дней она нередко вытаскивала мужа и дочь в «Де Маго», чтобы позавтракать на свежем воздухе, на террасе. Сидя на солнышке, напротив колокольни Сен-Жермен-де-Пре, она запрокидывала голову и, полуприкрыв веки, впитывала его в себя каждой клеточкой.