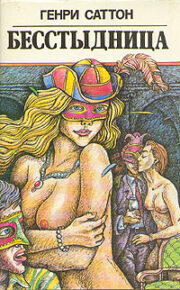И вдруг Мередит вспомнил, что Карлотта сказала что-то необычное… Что же? Ах, да.
— А что это за «пубертатный период»? — спросил он.
— Это значит, что девочка вступила в пору полового созревания, — ответила Карлотта. — На прошлой неделе у нее были первые месячные.
— Вот как? А ты…
— Да, я ей все объяснила. Мы говорили почти полдня. Она отнеслась к этому очень спокойно, даже по-философски. И расспросила меня во всех подробностях. У нее очень светлая голова.
— Да, — вздохнул Мередит. — Это так. — И еще она меня немного позабавила.
— Как?
— Я рассказала ей, как происходит половой акт. Она внимательно все выслушала, а потом спросила: «А зачем люди вообще занимаются этим?» И я не нашлась, что ответить.
Мередит рассмеялся.
— А зачем, в самом деле, этим занимаются? — переспросил он. Потом предложил: — Пойдем погуляем у озера.
На следующее утро после завтрака Мередит сказал Мерри, что они с Карлоттой посоветовались и решили, что лучше для Мерри будет вернуться в Штаты, в школу.
— Вы с ней вместе решили? — спросила Мерри.
— Да.
— Или только она? — Нет, мы вместе.
— Но ведь это она сказала, что мне лучше вернуться в Штаты?
— Я с ней согласился.
— Значит, это она?
Мередит ненадолго призадумался. Он чувствовал, что поступает очень скверно, валя все на Карлотту. Но он вспомнил слова Карлотты о том, что для дочери самое главное — сохранить с отцом теплые и доверительные отношения. К тому же ведь он говорил правду — именно так все и было на самом деле. Поэтому он ответил:
— Да.
— Так я и думала, — сказала Мерри.
Она не уронила ни слезинки и даже не обиделась, но оставшиеся до отъезда дни казалась задумчивой и отчужденной. Она держалась вежливо и всегда отзывалась, когда к ней обращались, но все же и Мередит и Карлотта видели происшедшую с Мерри перемену. Как будто ей было не тринадцать лет, а значительно больше. Карлотта сказала, что было бы лучше, если б Мерри выплакалась или даже на ком-то сорвалась. Но Мерри держалась спокойно.
А вот Карлотте с трудом удавалось сдерживать слезы. Собственный ее ребенок, ее маленький сын, погиб. Другого ребенка, ее и Мередита, она умертвила сама, пойдя на поводу у собственной гордости. Тогда ей казалось, что она поступила правильно. И вот теперь девочка, которую Карлотта любила как собственную дочь, да и считала собственной дочерью, чувствовала себя отвергнутой. Не скоро Мерри поймет, что Карлотта поступила так только ради нее самой; что только любовь и одна лишь любовь подтолкнула Карлотту к тому, чтобы принять столь трудное решение. Прощаясь с ними в аэропорту, Мерри не поцеловала Карлотту. Возможно, никто больше этого даже и не заметил. Мало ли что может случиться в предотъездной суматохе. Но вот Карлотта поняла, в чем дело, и долго не могла этого забыть. И еще долго с тех пор на глаза ей вдруг ни с того ни с сего наворачивались слезы. Словно вернулось то трагичное время после аварии, в которой погибли ее муж и ребенок. А хуже всего было теперь то, что, кроме Мередита, у нее не осталось ни одного близкого человека. Мередит же после того, как Карлотта рассказала ему то, чего поклялась сама себе никогда ему не рассказывать, казался мрачным и погруженным в свои мысли. Вот и теперь он сидел с самым мрачным видом. Возможно, думала Карлотта, он только кажется ей таким, поскольку ей самой так грустно и одиноко.
— Розенберг! Макартур! Трумэн! Говорю тебе — нам нужно какое-нибудь громкое имя.
— Мы же давали материал об Этель Розенберг.
— Ха! Представляю, как кабскауты[11] станут заниматься онанизмом, любуясь на фото Этель Розенберг.
— Ты перепутал — кабскауты не занимаются онанизмом. Ты имел в виду бойскаутов.
— Ты сам перепутал. Ты и в школе был двоечником.
— Так что — сделаем материальчик про кабскаутов?
— Гениально! Это лучшая мысль с тех пор, как кто-то предложил тиснуть статейку о писательских задницах. Кстати, это был не ты?
— Может, тогда про сифилис напишем?
— Про сифилис у бойскаутов? Правильно! Выведем их на чистую воду.
— Можно про сифилис у герл-скаутов. Это куда заманчивее.
— Нет, это то же самое. От кого, по-твоему, заражаются бойскауты?
— От других бойскаутов.
— Это ты у Дж. Д. Сэлинджера вычитал?
— А кто это такой?
— Брось, не придуривайся: это самый свежак в нашей литературе. Все от него тащатся.
— Все писатели — жуткие зануды. Только и могут, что писать.
— Это все редакторы — жуткие зануды. Только и могут, что вешать лапшу на уши.
— А как насчет этих новых старлеток, которые готовы сниматься нагишом?
— Кого ты имеешь в виду, умник?
— Барбару Стил, например.
— Нет, с кабскаутами у тебя получилось лучше.
— Может быть. А какие-нибудь премьеры у нас наклевываются?
— Да. «Два храбреца».
— Кто в главной роли?
— Мередит Хаусман.
— Нет, нам нужна женщина. Неужели сам не понимаешь — людям нужно что-нибудь разэдакое…
— Линда Форбес тебя не устроит?
— «Тайм» уже забил ее.
— Что еще?
— Другая премьера? «Иди по лестнице»?
— Иди в задницу!
— Джейн Роббинс?
— Нет, «Ньюсуик» уже нас опередил.
— А Рок Хадсон?
— «Херальд трибьюн».
— Ну, и где мы тогда?
— На Мэдисон-авеню, дубина.
— Хаусман?
— Я же тебе ясно объяснил — женщины нам нужны, понимаешь?
— Напишем про Хаусмана, а фоном пустим всех его любовниц. Вот тебе и полдюжины отборных кралей в одном материале.
— А Хаусман того стоит?
— Да, — блестящий малый. Дамочки от него без ума. — Ладно, Хаусман так Хаусман. И еще — система трансконтинентального телевидения и договор с Японией. О'кей?
— Да. Может, заодно и про писательские задницы напишем?
— Но начнем с твоей.
— Нет, серьезно…
— А я и не шучу.
«ЗВЕЗДЫ ЭКРАНА. ПЕРЕДОВАЯ С РАЗВЕРТКОЙ ПРО МЕРЕДИТА ХАУСМАНА, ПРИУРОЧЕННАЯ К ПРЕМЬЕРЕ «ДВУХ ХРАБРЕЦОВ». СОБРАТЬ ВСЮ ПОДНОГОТНУЮ. ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ. СЕЙЧАС ХАУСМАН В МОНТРЁ. ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ ВЫСЛАТЬ ДО 3 °CЕНТЯБРЯ. ТАУРНЕР».
Телетайп отстучал это послание на желтой бумаге, и Клод отнес его Джослин. Джослин пробежала глазами листок, задумчиво постучала кончиком авторучки по зубам и улыбнулась.
Ее встречи с Хаусманом совпали с переходом на работу в «Пульс», с периодом превращения едва оперившегося желторотого птенца в классного журналиста. Сам Хаусман руку к этому не приложил, но для Джослин тем не менее до сих пор ассоциировался с ее взлетом. На самом деле Джослин своим успехом была обязана войне — обстоятельства вынудили издателей и редакторов преодолеть недоверие и даже враждебность к журналистам женского пола. Джослин же так умело воспользовалась этим подарком судьбы, что по окончании войны перебралась из американской редакции в парижское бюро. В Париже было куда приятнее и спокойнее. Правда, свободного времени почти не оставалось, но зато все были настолько заняты, что подглядывать друг за другом было попросту некогда. И у каждого был свой участок. Джек Шоу освещал вопросы политики. Марвин Федерман занимался бизнесом, экономикой, а также планом Маршалла. Джослин и Харвард Уезерил вели самые спокойные разделы — религии, образования, науки, спорта и культуры. Джослин никогда даже в голову не приходило, что в один прекрасный день ей доведется взять интервью у Мередита Хаусмана. Сентиментальность всегда была ей чужда. Теперь же при мысли о предстоящей встрече с Мередитом на душе у нее вдруг потеплело. Сколько времени прошло с тех пор? Тринадцать лет? Интересно, как изменился он за эти годы.
Она пошла к Шоу, показала телеграмму от Таурнера и договорилась о поездке в Монтрё.
— Пожалуйста, в любое время, — сказал Шоу.
— Даже завтра?
— Бога ради, — улыбнулся он. — Отдохнешь немного.
— Спасибо.
Джослин вернулась в свою клетушку, сняла трубку телефона и позвонила в Монтрё.
— Мередит? Это Джослин.
— Джослин?
— Джослин Стронг, — произнесла она со значением. — Неужели ты забыл меня, дорогой?
— Ах, да, конечно. Э-э-э, как дела?
— Замечательно, спасибо, — сказала она и приумолкла. Потом решив, что Мередит уже достаточно помучился, сжалилась и добавила: — Я звоню по поручению «Пульса». Они заказали репортаж о тебе с обложкой и разверткой, приуроченный к премьере «Двух храбрецов», и поручили мне взять у тебя интервью. Это удобно?