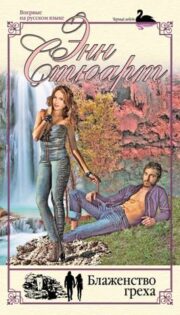— Не льсти себе. Просто я думала, что ты никогда не покидаешь свое духовное святилище. Если б знала, что наведаешься сюда, то ни за что бы не приехала.
— Твоя ошибка. Для всех я еще там, закрылся в комнате для медитации, пощусь и молюсь.
— Не для всех.
Он склонил голову набок, разглядывая ее. Желудок ее как будто куда-то провалился, под ложечкой тревожно засосало. От его ленивой улыбочки у нее плавились колени. Здесь, за пределами своего убежища, Люк был другим. Более опасным.
— С этим что-то надо делать, согласна? — Он подошел еще ближе. В Нью-Мехико Люк выглядел подтянутым, гибким, жилистым, но не более того, сейчас обтягивающая черная майка подчеркивала такую мускулатуру, что у Рэчел пересохло во рту.
Она отступила на шаг.
— Собираешься убить меня?
— И зачем мне это делать? — Тон остался прежним, ироничным и небрежным, но глаза смотрели цепко.
— Затем, что я могу рассказать о тебе правду. — Должно быть, она окончательно спятила. Если у него не было причины разделаться с ней, то теперь такая причина есть.
— Я же уже говорил, что никто тебе не поверит. У тебя нет доказательств.
— Если я расскажу нужным людям, они смогут найти доказательства, — не унималась она.
Люк покачал головой.
— Я не оставляю следов, когда отлучаюсь. — Он взял ее за шею, провел большим пальцем по щеке. Рэчел отшатнулась и наткнулась спиной на шершавую стену. — Я могу перерезать тебе горло, а к вечеру вернуться в Санта-Долорес, и никто не узнает, что я был здесь.
— А когда найдут тело? — хрипло спросила она.
— Не найдут. — Он наклонился ближе, так близко, что она почувствовала его дыхание на своем лице. Запах сигарет. — Тут кругом болота. Я знаю, где самые глубокие трясины. Ты могла заехать на машине в одну из них и сгинуть без следа.
Нужно держаться, говорила себе Рэчел. Ни в коем случае не упасть. И что страшнее: угроза смерти или это ласкающее поглаживание?
— Почему же ты не сделал этого со своим отцом?
Она думала, это заставит его отступить. Как бы не так.
— Наслушалась Эстер, да? — пробормотал он. — И совершенно напрасно. Она сумасшедшая старуха, любой тебе это скажет.
— Значит, ты не убивал своего отца?
От его улыбки дохнуло холодком. Он оглянулся на ржавое пятно, которое казалось темнее прежнего.
— Здесь было так много крови, — проговорил он, оставив без внимания вопрос. — Избавиться от тела — одно, скрыть улики — другое. Тут всюду были мозги, осколки костей, ошметки кожи.
К горлу снова подступила тошнота.
— Так ты убил своего отца? — не унималась она, отказываясь идти на попятный.
— Если я перережу тебе горло, — продолжал Люк все тем же спокойным, раздумчивым голосом, — тут опять все перепачкается кровью. Полагаю, я мог бы придушить тебя, хотя у меня больше опыта с ножом. — Он издевательски, по-волчьи ухмыльнулся.
— Вот как? — голос предательски дрогнул, но она не собиралась молчать.
Его лицо на мгновение застыло, превратившись в непроницаемую маску.
— Одно я скажу тебе точно. Я не убивал своего отца. Клянусь. — Сказано это было четко и твердо. И, к своему удивлению, Рэчел обнаружила, что верит ему. Человеку, которого считала неисправимым лжецом.
А потом он улыбнулся. Склонился еще ближе, так, что губы коснулись ее уха, и прошептал:
— Разумеется, Джексон Бардел не был мне отцом.
Миг доверия разбился вдребезги. Она со злостью оттолкнула его, допустив еще одну ошибку. Он был слишком силен, а ей недоставало пространства для маневра. Люк сжал ее руки, рывком оторвал от стены, на себя, и она врезалась в него.
— Не спрашивай меня, убил ли я Джексона Бардела, — прошептал он. — Ответ может тебе не понравиться.
Ее трясло. Он знал это, должен был чувствовать, как она дрожит, но Рэчел совершенно ничего не могла с этим поделать.
Другой рукой Люк обнял ее за плечи и прижимая к себе, удерживая в плену.
— Почему ты так меня боишься? Что, по-твоему, я собираюсь с тобой сделать? Не думаешь же ты в самом деле, что я убью тебя? — Он терпеливо ждал ответа, и она наконец покачала головой.
— И грабить тебя я тоже не стану. Твои деньги уже у меня. Ты не отказалась от борьбы, но должна понимать, что тебе ни за что не выиграть. Так что же тогда? Думаешь, я тебя изнасилую? Каждый раз, когда я приближаюсь к тебе, ты начинаешь вести себя, как жертвенная девственница. Я не насилую, Рэчел. Это неинтересно и слишком легко.
— Со мной это было бы нелегко, — решительно возразила она.
Он улыбнулся, самодовольно, снисходительно, и будь свободными руки, она бы ударила его. Но он лишил ее такой возможности.
Впрочем, она бы и размахнуться не смогла. Его ноги прижимались к ее ногам. И не только ноги. Она ощущала пульсацию его крови, напряжение мышц, жар тела.
— Так чего ты боишься? — снова спросил он этим горячим, дышащим соблазном голосом. — Боишься, что я уведу от твоей христианской веры и ты станешь такой же, как те дураки, которые верят в меня?
— Так они для тебя дураки?
— А кто же еще, если верят такому мошеннику и лжецу, как я, а? Скажи мне, чего ты боишься, и я отпущу тебя.
Она смотрела на него, завороженная, не в силах освободиться от его рук, тела, соблазнительной власти голоса. Он с обманчивым терпением ждал ответа, и Рэчел поняла, что он не отпустит ее, пока она что-нибудь ему не скажет. Что-нибудь, близкое к правде.
— Ладно, — уступила она, — скажу.
Он ждал, не отпуская ее. Надежды было мало, и она сделала глубокий вдох, о чем тут же пожалела. От ее вдоха их тела соприкоснулись еще теснее.
— Я боюсь, когда до меня дотрагиваются.
— Ерунда. Тебе это не нравится, но ты не боишься. Ты боишься, когда я дотрагиваюсь до тебя. Почему? Боишься, что может понравиться?
Она в ярости дернулась, но он крепко прижимал ее.
— Не льсти себе.
— О, я не льщу. — Сама не зная как, она оказалась прижатой к стене, и его руки обнимали ее, удерживали, и он сам был так близко, слишком близко. — Но у меня есть дар. Или проклятье, как ты, возможно, предпочла бы это назвать. Я могу притягивать к себе людей. Могу убеждать их делать то, что им бы никогда и в голову не пришло сделать. Могу превращать их в добровольных рабов. Ты этого боишься, Рэчел? Боишься стать моей рабыней?
— Этого не случится.
— А что, если я дам тебе выбор? — Голос низким рокотом шел из груди, и Рэчел ощущала его вибрации. — Ты отступаешься, мы объявляем перемирие. Ты возвращаешься к своей нормальной жизни, и, быть может, я убеждаю Старейшин отказаться от части денег твоей матери. Я могу сказать им, что Стелла была не в себе, когда составляла заключительное завещание, что боль и наркотики, которые она принимала, затмили ей разум.
— И они послушают?
— Конечно. Ты же знаешь, я могу любого заставить сделать все, что угодно, если задамся такой целью.
— А она действительно была не в себе от боли и наркотиков? Ты заставил ее написать то завещание? — Рэчел и сама услышала нотки отчаянной надежды в своем голосе, но никак не смогла их скрыть.
Что-то мелькнуло в глубине его бездонных глаз.
— Я мог бы сказать тебе все, что угодно, и ты бы поверила. Мог бы сказать тебе то, что ты хочешь услышать; мог бы вернуть тебе твою мать. Это было бы так легко.
— Так ты заставил ее написать завещание? Она понимала, что делает, или была слишком больна, чтобы что-то соображать?
Люк долго смотрел на нее.
— Стелла написала завещание за шесть месяцев до смерти. Она прекрасно знала, что делает. Ей было наплевать на тебя, Рэчел. Она никогда тебя не любила и теперь уже никогда не полюбит.
Все вокруг вдруг стихло, замерло, остановилось.
— А если я тебе не поверю? — спросила она безжизненным голосом, зная, что уже верит. — Если буду бороться с тобой?
— Тогда я уничтожу тебя. Лишу последней и единственной защиты, единственной силы, за которую ты держишься. Я сделаю так, что ты будешь хотеть меня, Рэчел. Все прочее потеряет для тебя смысл.
Она выдавила кривую улыбку.
— Не получится. Ты не сможешь превратить меня в одну из твоих безмозглых последовательниц.
— Может, и нет, — согласился он, — но ты не сможешь жить без меня.