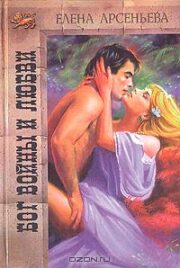Елизавета осеклась, недоумевая, что это вдруг разошлась хаять любимую внученьку перед первой встречной, даром что приятельницей Марии. Вдобавок гостья смотрела так странно, так…
— Значит, дочь Марии здесь? — Голос маркизы д'Антраге дрогнул. — А я-то пыталась разыскать ее в Смольном, да эти старые наседки — классные дамы… — Она расхохоталась, закинув голову, и тонкая чадра запала в ее открытый рот, так что княгине на какой-то жуткий миг почудилось, будто перед нею оскал черепа. Но гостья обернулась к ней, и взор этих прекрасных глаз тотчас успокоил мимолетную тревогу.
— Мария желала, чтобы дочь ее выросла вполне русской, — пояснила княгиня Елизавета. — Кроме того, родив дитя столь поздно, в зрелые годы, ни Мария, ни Димитрий Васильевич, мне кажется, так и не поверили вполне, что стали отцом и матерью!
Со стороны, наверное, могло показаться, что этими словами старая княгиня осуждает дочь и зятя, однако в голосе ее отчетливо звучала благодарность судьбе за то, что Мария и муж ее были всецело поглощены своей непростой любовью друг к другу и делом, составляющим смысл жизни барона Корфа, а потому даровали Измайловым на старости лет это счастье: растить и воспитывать любимое дитя. Ангелина была светом их очей, и княгиня Елизавета могла упрекать себя лишь за переизбыток любви и ласки, из коих сплелся тот непроницаемый кокон, благодаря которому Ангелина и к двадцати годам казалась сущим ребенком, а никак не девицею на выданье.
…Блаженная тяжесть навалилась на Ангелину, билась, терлась о ее жаждущее естество, однако того, чего бессознательно желала она, не случилось. Руки юноши то хватали ее тело, то отпускали; он что-то досадливо шептал, терзая ее губы… Не в силах более терпеть этой пытки, Ангелина приоткрыла глаза и увидела, что он лихорадочно пытался развязать мокрые тесемки своего исподнего, но они сплелись в тугой узел и никак не поддавались нетерпеливым пальцам. Ангелина потянулась помочь, но ее руки вновь встретили напрягшуюся, обтянутую полотном плоть, и девушка только разок приласкала ее, как вдруг незнакомец уже не застонал, а зарычал и так прижал Ангелину своим телом, что она едва не задохнулась. Он весь содрогался, его тяжелые вздохи оглушали Ангелину. А потом, к ее величайшему разочарованию, он скатился с нее и обессиленно распластался на песке, все так же бурно дыша.
Ангелина забыла осторожность и стыд, она знала лишь одно: распалив до изнеможения, он так и не погасил сжигавший ее жар, в то время как сам… она не знала, что все это значит, она просто рассердилась, но всю вину за случившееся — вернее, за неслучившееся! — возложила на этот проклятый мокрый узел, который не пожелал развязаться, когда требовалось, а потому она вцепилась в завязки зубами и так рванула, что юноша вскрикнул от неожиданности, а тесьма не выдержала — и лопнула.
Радостно засмеявшись, Ангелина потянула с его чресл мокрые исподники, однако тут же восторг ее сменился своей противоположностью: внизу живота, на мелко-кудрявой золотистой поросли, возлежало что-то столь возмутительно вялое, что Ангелина сердито вцепилась в него губами и зубами разом.
Юноша испустил вопль, слышимый не меньше чем за версту, и выгнулся такой дугою, что тело его какой-то миг касалось земли лишь затылком и пятками. И тут Ангелина едва не задохнулась: в рот ей словно бы кляп забили, и она поскорее отпрянула от внезапно воспрянувшего мужского естества, глядя на него почти с суеверным ужасом, словно на некоего бога, восставшего на святотатца.
Незнакомец лежал, распластавшись, бесстыдно воздев к небесам знак своей божественной земной сути, но более не делая попыток прикоснуться к Ангелине, а как бы в ожидании, предоставив себя ее заботам.
Она пустилась дрожащими руками нежить его и гладить, однако слишком распалена была, чтобы думать сейчас о чьем-то другом наслаждении, кроме своего, а потому, утратив остатки терпения, вскочила на незнакомца верхом, как на гнедого, коленями сдавив его бока… и ей почудилось, будто она насадила себя на раскаленный жезл, который вошел в нее чуть ли не до самого сердца.
Новый душераздирающий вопль огласил окрестности, и Ангелина, сорвавшись с этого обоюдоострого, окровавленного меча, почти бездыханная рухнула на песок, сжалась в комочек, зашлась в рыданиях, вдруг поняв, что боль и кровь означают утрату девичества — самого драгоценного сокровища для всякой незамужней женщины.
Сейчас она не могла понять, где были ее стыд, совесть и разум, почему она впала во грех с первым встречным… и добро бы он ее, а то ведь сама себя лишила невинности! И, осознав, что снова, в который уже раз в жизни, поступила не как все «хорошие девочки», «примерные барышни» и «достойные девицы», с которыми ее постоянно — не в пользу для нее! — сравнивали, Ангелина залилась тихими, горькими слезами, по-детски неостановимыми, которых, увы, нельзя было выплакать дедушке в плечо или бабушке в колени: все, все, кончилась ее девичья, девчачья пора, навеки и с корнем вырвала она себя из привычного мира домашней, снисходительно-ласковой любви… теперь она одна, навеки одна!
— Нет, — раздался у самого уха шепот, и теплые губы прильнули к ней ласковым поцелуем: — Нет, тише, не плачь! Ты не одна! Я с тобою!
Ангелина поняла, что вслух выкрикнула свое отчаяние, и незнакомец решил ее утешить. Но не тихое утешение, не жалость его были нужны сейчас Ангелине, а она не знала, не ведала, чего именно жаждала, только не этого братского сочувствия. Но слезы хлынули с новой силой, когда теплые руки разжали ее плечи, а губы перестали тихонько целовать. Ушел? Отступился?..
И вдруг у Ангелины захватило дух, ибо она ощутила его руки и губы на своих бедрах. От радости она вся обессилела и безропотно позволила перевернуть себя на спину, вновь всецело отдаваясь во власть незнакомца. Он тихонько плескал водой на ее тайные раны, а пальцы, чуть касаясь, гладили, врачевали их так бережно и нежно, что слезы отчаяния сменились слезами благодарности.
— Милая… — долетал чуть слышный шепот. — Милая, ненаглядная моя!
Ангелина попыталась приподняться, но тяжесть его тела не позволяла шевельнуться. Решившись открыть глаза, она не сразу сообразила, что незнакомец перевернулся на ней, так что теперь перед ее глазами оказалось не лицо его, а то самое орудие, которое давеча нанесло ей невозвратимый и болезненный урон. Но теперь Ангелина вовсе не пылала к нему жаждой мести: ведь руки незнакомца, которые порхали по самым сокровенным уголкам ее естества, словно бы извлекали из него сладостную, томительную мелодию, в лад которой начали медленно вздрагивать и сердце, и тело Ангелины. Нельзя было не ответить нежностью на эти нежнейшие касания, поэтому она легонько погладила узкие чресла незнакомца, а затем приласкала и самого лиходея, который отозвался напряженной дрожью на это смелое прикосновение. Словно желая отблагодарить Ангелину, незнакомец осыпал поцелуями ее лоно. Что же ей оставалось делать, как не покрыть такими же поцелуями единственно доступную ей часть его тела? В этот миг незнакомец нашарил языком какое-то волшебное местечко в самой ее сердцевине, и Ангелина не сдержала стона — нет, не боли, о боли она давно забыла! — а изумления и восторга. Его губы сделались смелей, жарче, да и она отвечала со всей страстью: ласкала, целовала, гладила его везде, где только могла дотянуться ртом, пока трепет близкого наслаждения не сотряс ее тела. Тотчас незнакомец вновь оказался с нею лицом к лицу, губы с губами, грудь с грудью, чресла с чреслами, и они соединились, неистово сплелись в блаженных содроганиях, вцепились друг в друга, враз исторгнув из самой глубины сердец и тел:
— Люблю тебя!
— Люблю тебя!
— …Сколь я слышала о молодой баронессе, ей надобно будет сделаться общительной и обходительной, изменить свое обращение с жизнью, чтобы на бале не приходилось весь вечер не покидать своего кресла и удалось бы составить выигрышную партию, — проговорила маркиза д'Антраге, и князь с княгинею переглянулись, удивившись, как скоро поняла и точно выразила странная гостья суть их беспокойства и намерений. — Поверьте, не было бы в мире человека счастливее меня, когда б я сама смогла уделить время и внимание дочери Марии! — Голос маркизы экстатически дрогнул, и Елизавета улыбнулась ей, до глубины души растроганная таким явным проявлением дружбы и любви. — Однако я здесь лишь для того, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение… — Маркиза вновь не совладала с голосом, и Елизавета подумала, что, верно, и впрямь роковые события связывали в прошлом ее дочь с этой загадочной гостьей! А та, уняв волнение, продолжала: — Однако есть у меня на примете человек, который вам необходим. Конечно, это француженка, — она улыбнулась князю Алексею не без тонкого укора, — но в Нижнем прижилась и открыла процветающее дело. Я говорю о мадам Жизель, модистке… о нет, королеве модисток! — поправилась маркиза, заметив пренебрежительную переглядку Измайловых. — Возможно, вы слышали о модистке Розе Бертэн, которая была для нашей королевы-мученицы почти наперсницей, а ведь она даже не обладала знатным происхождением. Но мадам Жизель, о которой я говорю, в действительности — графиня де Лоран, моя кузина, и все благородное, вековое прошлое нашей семьи помогло ей создать вокруг себя такую атмосферу изящества и утонченности, которая окажет на юное существо самое благотворное, самое живительное воздействие… не в пример этой светской тюрьме, Смольному институту! — добавила маркиза, и эти ее последние слова оказались решающими: князь Алексей был ярым противником недомашнего женского образования, и всякий уничижительный отзыв о столичном заведении, куда отвозили несколько лет подряд его любимую внучку, находил прямой доступ к его сердцу. Рекомендация маркизы теперь казалась ему особенно ценной, он безоговорочно согласился доверить воспитание Ангелины этой неведомой мадам Жизель, ну а жена его… повторим, княгиня Елизавета была воспитана по старинке, стояла перед любимым мужем как лист перед травой, не выходя из его воли, — не вышла и сейчас.