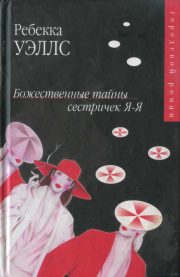В такие «ручейные» дни мама никогда не волновалась насчет своих волос, очень коротко остриженных. Она называла это «шапочкой четырех ребятишек». Она была натуральной блондинкой, и без макияжа ее волосы и ресницы были того же оттенка. Много лет спустя, когда Миа Фэрроу обрезала волосы, я-я хором провозгласили, что она подражает матери.
Зато ее глаза были темно-карими, с красноватым оттенком, что сообщало лицу выражение силы, уверенности, которого без этого контраста наверняка бы не было. Светлая кожа и волосы придавали ей обманчивый вид хрупкости. Зато глаза красноречиво говорили о том, что она берется за дело всерьез и не любит шутить.
Выйдя из воды, она обычно вытирала волосы, красила губы и тянулась к белой шляпе с широкими полями, потому что, как она поучала нас, блондинки могут лежать на солнце только под очень широкими полями. Моя мама ужасно любила такие шляпы.
В те дни я знала ее тело вплоть до формы пальцев на ногах, ногти которых обычно отсвечивали ее фирменной маркой, лаком «Рич герл ред». Светлую кожу плеч и щек усеивали крохотные веснушки цвета корицы. Под ними переливалась молочная белизна. Иногда, при определенном освещении, сквозь кожу просвечивали тонкие лиловые и голубые вены, и это обычно ужасало меня.
И ходила она как заправская теннисистка, какой на самом деле и была. Ноги прекрасно выглядели в шортах, которые она ничтоже сумняшеся носила даже там, где это не слишком приветствовалось. Итак, летом она носила шорты, безупречно чистую рубашку из полотна или ситца, аккуратно в них заправленную, белые спортивные носки, белые кеды с круглыми мысками, называя все это своей летней формой. Во всем белом, как теннисистка.
В маленьком женском теле каким-то образом умещалась великанша. В ней было всего пять футов четыре дюйма, и она никогда не весила более ста пятнадцати фунтов — если, разумеется, не была беременна. Мать по праву гордилась своим весом и из кожи вон лезла, чтобы его поддерживать. Зато руки и ноги, казалось, принадлежали более высокой женщине. Не то чтобы они были слишком длинны для ее тела, просто со стороны наблюдалась некая излишняя гибкость, гибкость, под которой скрывалась собранность. Похоже, огонь, горевший в теле моей матери, был чересчур горяч и для ее светлой кожи.
«Я сейчас выпрыгну из кожи», — говаривала она. И в детстве я все время боялась, что именно так и произойдет.
Она совсем не походила на матерей из книжек и фильмов. Если не считать на удивление пышных для ее тонкой талии грудей, она не имела обычных женских округлостей и была скорее мускулистой и жилистой. Любая унция жира, пытавшаяся с возрастом осесть на ней, немедленно изгонялась диетой или физическими упражнениями. Как-то Ниси осторожно спросила ее: «Виви, почему ты стремишься оставаться такой худой? Нам уже не восемнадцать». «Когда я решу откинуть копыта, хочу уйти с легким багажом», — немедленно ответила мать, словно ждала вопроса.
Закрывая глаза, я вижу перед собой мать точно такой же, как много лет назад, в моем детстве. Слышу все богатые, бархатистые оттенки ее голоса. В нем нотки Скарлетт — Кэтрин Хепберн — Талулы[21].
Зато я ничего не знаю о ее теперешнем теле. Обнаженном теле. Доходили слухи, что она «немного пополнела», но доказательств у меня нет. Более двадцати лет я не видела мать без одежды. И неизвестно, узнаю ли ее, не видя лица и не слыша голоса, и от этого становится грустно.
Думая о Виви моего детства, я чувствую себя подавленной и ошеломленной. Она родила четверых… пятерых, если считать моего умершего брата-близнеца. Родила за три года девять месяцев. Это означает, что с самой свадьбы у ее тела не было ни единого шанса отдохнуть и успокоиться от безумных гормональных танго беременностей. Это означает, что четыре-пять лет подряд она была лишена нормального сна. Одному лишь Богу известно, как мама любит поспать (почти так же, как я). Она частенько признавалась, что способна ощущать сон на вкус и он такой же восхитительный, как варенье на свежем французском батоне.
Даже в детстве вы понимали, что она не из тех женщин, которым предназначено иметь четверых детей-погодков. Даже стоя рядом с ней, вы понимали, что просите слишком многого, когда дергали ее за шорты, умоляли и настаивали: «Взгляни на меня, мама! Смотри, как я делаю это, мама. Ну обернись же!»
Но этими летними днями моя мать казалась богиней, резвившейся с подругами на берегу ручья. Иногда я поклонялась ей. Иногда из кожи вон лезла, чтобы добиться того внимания, которое она уделяла я-я. Иногда ревновала так, что желала смерти Каро, Ниси и Тинси. Иногда сидевшие на одеялах мама и ее приятельницы казались мне столпами, подпиравшими небеса.
Здесь, в охотничьем домике, в двух с половиной тысячах миль от Луизианы и десятках лет от моего детства, если закрыть глаза и сосредоточиться, я ощущаю запах матери и остальных я-я, словно мое собственное тело сохранило ароматы я-я, кипящие на черной чугунной жаровне, и в самые неожиданные моменты они поднимаются и смешиваются с благоуханием моей нынешней жизни, составляя новые-старые духи. Мягкий запах старого выношенного ситца из бельевого чулана, въедливый запах табака, идущий от свитера из ангорки; запахи лосьона для рук, жареных зеленых перцев и лука; сладкий ореховый запах арахисового масла и бананов, дубовый запах дорогого бурбона, смесь ландыша, кедра, ванили и доносящийся откуда-то запах сушеных роз. Старые, привычные, знакомые ароматы… Конечно, у мамы, Тинси, Ниси и Каро были свои духи. Разные. Но это гамбо[22] их духов. Гамбо я-я. Мой собственный пузырек с духами, который я буду вечно носить в душе.
Все их духи были в одной тональности. И сами они гармонировали одна с другой.
Разумеется, поэтому им было легче забывать и прощать. Не выстраивать денно и нощно отношения, как это делаем сейчас мы. У меня такого никогда не получалось. Мне трудно даже представить такое количество подруг. И все же я своими глазами видела эту дружбу. Обоняла ее.
Духи матери были созданы Клодом Хове, парфюмером французского квартала, когда ей исполнилось шестнадцать. Подарок Женевьевы Уитмен. Ненавязчиво шокирующий и глубоко трогающий аромат. Из тех, которые тревожат и восхищают меня. Спелые груши, лаванда, чуть-чуть фиалки и что-то еще: пряное, горьковатое, экзотичное.
Однажды я уловила его на улице Гринич-Виллиджа, остановилась как вкопанная и огляделась. Откуда он доносится? Из магазина? От дерева? Прохожего?
Я так и не смогла угадать. Знаю только, что сразу захотелось плакать.
Я стояла на тротуаре, окруженная спешившими куда-то людьми, и вдруг почувствовала себя ужасно молодой и ранимой. Я живу в океане запахов, и океан — моя мать».
6
Закончив делать записи, Сидда вдруг захотела спать. Покорно опустила голову на стол и задремала. С коленей соскользнул альбом Виви. Крошечный ключик вылетел из складок старых страниц и упал на пол, к ее ногам.
Это первое, что увидела Сидда, проснувшись. Маленький, потемневший от времени, свисавший с цепочки, размером примерно с пекановый орех. Что он открывал? Шкатулку с драгоценностями? Небольшой саквояж? Дневник?
Сидда прошла к раздвигающимся стеклянным дверям и выпустила Хьюэлин. Наступил рассвет, но озеро было окутано туманом, таким густым, что не было видно противоположного берега.
Она вышла на веранду и долго стояла, глядя в туман. Ключ по-прежнему лежал в ее ладони. Похоже, когда-то на нем были выгравированы мелкие буковки, стершиеся от времени. Позвав Хьюэлин, она подула на замерзшие руки и сделала странную, ребяческую вещь: понюхала и лизнула ключик. На губах остался металлический вкус, заставивший ее вздрогнуть и почувствовать нэнсидруподобное[23] волнение.
Остаток дня Сидда гуляла, ела и спала. Она и не представляла, что устала так сильно. Наконец, часа в четыре, пришлось отправиться в «Куино-Мекентайл», маленький универмаг, обслуживающий всю округу. Там же имелся телефон-автомат.
Украдкой перекрестившись, она набрала номер родителей.
Когда в Пекан-Гроув зазвонил радиотелефон, в штате Луизиана был самый разгар часа коктейлей. Виви Уокер сидела в складном кресле на краю огорода Шепа, наблюдая, как муж собирает овощи на ужин.
— Алло, — бросила она.
— Мама, это Сидда.
Виви глотнула бурбона с простой водой и немедленно ощутила укол совести за столь поспешное нарушение обета трезвости. Набрав в грудь воздуха, она едко осведомилась: