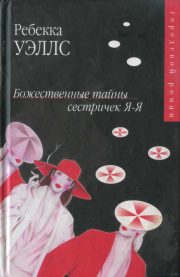— Спятивший идиот, — с наслаждением выговорила Виви. — Это был не бурбон, а табаско!
— Что нужно сделать чужаку, чтобы заслужить глоток пива?
— Не стесняйся, Коннор, — пригласил дядя Пит. — У нас еще остались холодные креветки и жареные лягушачьи ножки.
— Да я лучше поплаваю среди акул байю, — ужаснулся Коннор, открывая бутылку и придвигая стул.
Все засмеялись. Очевидно, им понравился Коннор. Сидда только улыбалась, глядя, как на ее глазах театральный художник, получивший образование в Йеле, превращается в Доброго Старину Коннора.
Он глотнул пива, встал, подошел к Сидде, перегнул ее через руку и без всякой видимой причины, если не считать колдовства байю, запечатлел на губах крепкий влажный поцелуй.
Вся шайка под зорким взглядом Виви радостно завопила, и Сидде все это было как бальзам на душу.
Уводя Сидду в дом, мать сказала:
— Гости почти все съели, но кое-что все-таки осталось. Давай я тебя покормлю.
Пока она возилась на кухне, Сидда вышла во двор и села на качели. Рядом стояли кейджанская плита и несколько столов: должно быть, здесь варили лангустов.
Виви на секунду замерла в дверях: мгновенное колебание, граничащее с застенчивостью. Но это продолжалось какие-то доли секунды, прежде чем она направилась к Сидде и протянула бокал шампанского и глубокую тарелку, до краев наполненную мясом лангустов, молодым картофелем, кукурузными початками и ломтиками намазанного маслом французского хлеба.
— Спасибо, мама, — выдохнула Сидда, только сейчас осознав, как проголодалась.
— Твой отец сам готовил. Я и пальцем не шевельнула. Прости, что так мало осталось. Гости все подмели.
— О, хватит и этого, — заверила Сидда.
— Сможешь есть лангустов на качелях или сядешь за стол?
— Мама, я еще не забыла, как высасывать головы луизианских лангустов, где бы при этом ни сидела.
— Возьми салфетки, — велела Виви, вытаскивая из-за пояса два больших квадрата розового полотна.
Заправив один за воротник блузки, как слюнявчик, а другой подложив под тарелку, Сидда принялась чистить лангуста.
— Не хочешь присоединиться? — спросила она, показывая на свободное место рядом с собой.
— Спасибо за то, что предложила мне сесть на мои собственные качели! — отрезала Виви тоном, значения которого Сидда не поняла, и уселась так близко, что их тела соприкасались. Но при этом смотрела прямо перед собой, держа одну руку за спиной. И Сидда вдруг сообразила, что мать до сих пор ни разу не закурила.
Боясь сказать что-то не то, она молча ела лангуста.
— Восхитительно.
— Слава Богу, луизианские мужчины умеют готовить, — откликнулась Виви.
— Но не так восхитительно, как твое этуфе, конечно.
— Ниси тебе оставила?
— Я и забыла, что у еды может быть такой вкус, — призналась Сидда.
— Тебе вправду понравилось?
— Понравилось?! Мама, то этуфе, что ты послала мне, посрамило самого Поля Прудома! По сравнению с тобой он недостоин быть поваром в дешевой забегаловке!
— Что же, спасибо. Я известна своим этуфе, если помнишь. Училась готовить у Женевьевы Уитмен.
— Спасибо, что послала его в Куино, мама.
— Единственное, что я делала хорошо, — кормила вас, — вздохнула Виви. И что-то в ее голосе поразило Сидду. Она неожиданно для себя догадалась, что мать нервничает не меньше ее.
— Ты делала куда больше хорошего, чем дурного! — выпалила она.
Обе замолчали, не зная, что сказать.
— Ты прекрасно выглядишь, мама. Лучше некуда.
— Это ты изумительно выглядишь. Кажется, ты похудела.
Сидда улыбнулась. Наивысшая похвала в устах матери.
— А вот я поправилась. Это все поднятие тяжестей: наращивает мышцы. И бросила курить. Плюс все эти «сникерсы».
— Ты просто невероятна! А я вот уже сколько лет не могу заставить себя поднимать тяжести! — хмыкнула Сидда.
— Я не выгляжу чересчур толстой? — спросила Виви.
Невозможно сосчитать, сколько раз она задавала дочери этот вопрос. Но теперь Сидде послышался иной смысл, словно на самом деле мать спрашивала: «Не слишком ли я погрузнела? И не похудеть ли мне ради тебя?»
— Нет, мама. Ты не выглядишь толстой. В самый раз. Не слишком много, не слишком мало.
Виви, едва освещенная лунным светом, смотрела куда-то вдаль.
— Твой отец, — сказала она, едва сдерживая слезы, — засадил подсолнечником почти триста акров. Это его второй урожай за сезон. Не хлопок. Не соевые бобы. Подсолнечник. Вот подожди, увидишь все это при свете дня. Он твердит, что приманивает птиц для охоты, но все равно никто не поверит. Триста акров подсолнечника, чтобы приманить пару несчастных голубей? Да в день открытия голубиной охоты он только и делает, что щелкает камерой!
Она глубоко вздохнула.
— Представляешь, Сидда, там настоящий Ван Гог! Думаешь, что знаешь человека, если прожила с ним почти пятьдесят лет, а он вдруг берет и выкидывает такое. И все ради красоты.
Она всхлипнула, но тут же шмыгнула носом и легонько похлопала кончиками пальцев под глазами.
— Ах, эти чертовы мешки!
Она повернулась так, чтобы Сидда могла ясно видеть ее темно-карие глаза, молочно-белую кожу с крапинками веснушек, чуть отвисший подбородок.
— Это мой праздник, — капризно заявила Виви тоненьким голоском непослушной девчонки, — хочу и плачу.
И тут же разразилась смехом. Сидда громко вторила ей. Господи, до чего же хорошо снова смеяться со своей матерью!
— Что заставило тебя сделать это? — вырвалось у Виви. — Сесть на самолет и прилететь в такую даль?
— Лаванда. Это все Лаванда.
Виви отвернулась и, помолчав, спросила:
— Ты ничего не вынула из моего альбома? Ничего не потеряла? Все, что там лежит, — бесценно. Эти сокровища не купить ни за какие деньги.
— Я привезла «Божественные секреты племени я-я» с собой, мама. Хочешь, принесу прямо сейчас?
— Нет, не вставай. Потом.
Но Сидда уже шагала к машине. Когда она открыла дверцу, Виви увидела лицо дочери в свете автомобильных огней. Такая красивая и сосредоточенная. Точно такой же она была в молодости.
Сидда вернулась к качелям, захватив альбом и небольшой сверток в подарочной упаковке, который незаметно сунула в карман полотняного жакета. Первым делом она вручила альбом матери.
— Я взяла его с собой в самолет. Не хотела, чтобы с ним что-то случилось. В своей записке ты просила вернуть его в целости и сохранности.
Виви осмотрела альбом. Осторожно погладила переплет и поднесла руки ко рту.
— Речь шла не об альбоме, — прошептала она.
— Мама, — с улыбкой напомнила Сидда, — ты настоятельно подчеркнула, что закажешь меня, если…
— Я хотела, чтобы ты вернулась ко мне живой и невредимой, — призналась Виви.
— О, мама, — с трудом выговорила Сидда, кладя руку на плечо матери. От той пахло знакомыми духами «Ове», волшебной смесью груш, фиалок, фиалкового корня и ветивера. И под этим запахом таился еще один: природный аромат Виви, исходивший от ее кожи, от самых молекул, из которых состояло ее тело. И в ночном воздухе Луизианы Сидда снова ощущала первый запах, который вдохнула, только появившись на свет.
Лампочка на телефонном столбе в конце подъездной дорожки отбрасывала какой-то старомодный, деревенский свет, сливающийся с огнями рождественской гирлянды, развешанной вокруг качелей. Сидда смотрела на мать и замечала ее стареющую, почти прозрачную, покрытую мелкими морщинками кожу. Морщинками, образовавшимися за много лет стараний скрыть страх очаровательной улыбкой. Видела мужество матери. Ее боль.
И, глядя вместе с ней в темноту полей, где росли сотни подсолнухов, Сидда думала, что никогда не узнает свою мать. Не больше, чем отца, Коннора или себя.
Я упустила что-то важное. Дело не в том, чтобы узнать другого человека или научиться его любить. Вопрос, в сущности, очень прост: насколько нежными мы способны быть? И насколько гостеприимными, чтобы принимать себя и других в свои сердца?
И здесь, во дворе плантации Пекан-Гроув, в сердце Луизианы, еще не испытавшей первого в этом году заморозка, Сиддали Уокер сдалась. Отказалась от необходимости знать. Отказалась от необходимости понять. Просто сидела рядом с матерью и чувствовала силу их совместной хрупкости.