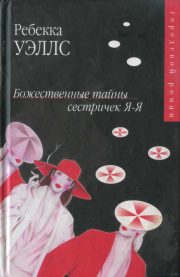Она вернулась домой без сознания вины.
Виви протянула руку, и Сидда взяла ее. Их соединенные ладони лежали между ними на качелях. Обе одновременно опустили глаза и заметили одинаково белую кожу, форму пальцев и расположение вен, разносящих кровь я-я по их телам.
— О Господи, — вздохнула Виви.
— О Господи, — отозвалась Сидда.
Всего несколько звуков… словно мать и дочь дышали одной грудью. И без слов принялись отталкиваться ногами от земли. Качели стали раскачиваться. Не резко и не высоко. Плавно, едва заметно, как колыбель, заключившая в себя мать и дочь, две разные и равные планеты, летящие сквозь космос осенней ночью.
— Я хочу кое-что подарить тебе, — прошептала Виви, сунув руку в карман брюк.
Сидда вопросительно посмотрела на мать. Та молча вложила что-то в ладонь дочери. Разжав пальцы, Сидда увидела маленькую бархатную коробочку. Внутри оказалось кольцо с бриллиантами, подаренное Виви отцом на шестнадцатилетие.
— Отец дал мне его в ночь моего шестнадцатого дня рождения, — просто объяснила Виви. — Однажды я чуть не потеряла его, но сумела вернуть.
И величественно, как жрица, вынула кольцо и дрожащими, мягкими, покрытыми желтыми старческими пятнами руками надела на палец дочери и поцеловала ее ладонь. Не так, как целуют руки любовника, а как целуют пальчики ребенка, розовые, пухлые и такие хрупкие, что сжимается сердце.
Ощутив влагу материнских слез, Сидда, в свою очередь, поднесла к губам ее руку и прижала к щеке. И обе дружно заплакали. Ни рыданий. Ни всхлипов, только молчаливо текущие по щекам слезы.
— Спасибо, мама, — выдохнула Сидда. — За все божественные секреты, которые ты хранила.
— Секреты? — шмыгнула носом Виви. — О, мивочка! Если ты об альбоме, так это чепуха! Половину всей этой чепухи я уже и не помню! Видела бы те документы, что я тебе не послала! Вот где настоящие секреты!
«Это и есть моя мать. Настоящая мать», — думала Сидда.
— Говорю тебе, — сквозь слезы сказала Виви, — стыд и позор, что «Ванда бьюти» больше не выпускают!
— Да, пригодилось бы таким грешницам, как мы, — согласилась Сидда, — то и дело нарушающим Пятую Заповедь Красоты и Привлекательности.
— «Мои любовные лучи постепенно меркнут. И скоро погаснут совсем».
— «Погаснут в окружении морщин и мешков под глазами, — подхватила Сидда. — Любой девушке встречается немало препятствий в войне за любовь».
— Чертовски верно, — согласилась Виви.
— О’кей. Сейчас моя очередь, — объявила Сидда, доставая из кармана сверток, который поцеловала, прежде чем вручить матери.
Виви сорвала розовую обертку и осторожно вынула крохотный стеклянный пузырек — размером с цветок наперстянки. Сосуд был очень старым, и поверх стекла вилась серебряная сеточка. В центре маленькой завинчивающейся крышки зеленела нефритовая горошинка. Виви нерешительно сняла крышку и поднесла пузырек к носу.
— Это не для духов. Для чего-то другого, верно?
— Верно, мама. Для чего-то другого.
Вив задумчиво склонила голову набок.
— Скажи.
— Это называется слезница. Крохотный кувшинчик для слез. В прежнее время это был один из самых драгоценных подарков, который только мог преподнести один человек другому. Это означало, что он разделяет с другом скорбь, которая свела их вместе.
— О, Сидда! — ахнула Виви. — О, дружище!
— Этот, по-моему, относится к викторианской эпохе. Я нашла его в Лондоне несколько лет назад, обшаривая антикварные магазинчики в поисках реквизита.
— И там твои слезы? — спросила Виви, поднимая пузырек.
— Да, но еще осталось много места.
Виви посмотрела на дочь и подмигнула. По крайней мере той так показалось. А может, смаргивала слезу. Потому что в следующую секунду поднесла слезницу к правому глазу и энергично закивала головой, пытаясь стряхнуть слезы в отверстие.
Сидда принялась хохотать. Виви улыбнулась.
— Над чем это ты смеешься, сумасшедшая дурочка? Я ждала такого подарка всю свою жизнь.
— Знаю, — кивнула Сидда, смеясь и плача одновременно. — Знаю.
Но тут Виви встала с качелей и, по-прежнему держа сосуд под глазом, принялась скакать. Сначала на одной ноге. Потом на другой.
Сообразив, что задумала мать, Сидда тоже поднялась и последовала ее примеру, подпрыгивая и наклоняя голову к сосуду, чтобы уронить туда и свои слезы. Виви, со слезницей в руках, и Сидда, с когда-то заложенным, но возвращенным кольцом на пальце, прыгали и плакали. Прыгали, плакали, смеялись и громко, торжествующе, несвязно вопили. Постороннему наблюдателю показалось бы, что эти женщины исполняют странный ритуальный племенной танец. Ритуальный Танец Матери-Дочери Из Едва Не Погибшего, Но Все Еще Могущественного Племени Божественных я-я. Древний обычай передачи слез и бриллиантов. Бриллиантов и слез.
32
Только в начале второго ночи Сидда и Коннор устроились в гостинице «Дом тетушки Мари» на Кейн-Ривер.
— Прямо как в кино, — прошептал Коннор, когда они приближались к дому в стиле креольско-греческого Ренессанса. По обе стороны широкого крыльца шли колонны, а воздух был напоен густыми сладкими ароматами. Мерцание газовых фонарей порождало тени, пляшущие на ставнях и кирпичных стенах, Сидда и Коннор, словно перенесшись назад во времени, очутились в другом веке.
Владелец представился как Томас Лекомт. Проведя Сидду и Коннора через сад к галерее, в номера, устроенные в старых невольничьих бараках позади главного дома, он решил, что эти двое, вполне возможно, родственники, тем более что семья Сидды была ему хорошо знакома.
— Собственно говоря, — начал он, входя в стеклянные двери, ведущие на галерею, — вон тот куст камелии сорта «Румянец леди Хьюм» вырос из черенка, который ваша бабушка по матери дала моему отцу. По-моему, ее звали Мэри Кэтрин Боумен Эббот, верно? Просто гений цветоводства. Чего у нее только не росло! Мой отец тоже был неплох. Помешан на камелиях. Стоило сорвать цветок, и он кричал, что куст обезглавили. Убил бы меня, если бы увидел, как мой садовник обрезал драгоценность вашей бабушки.
Стоя на галерее, Сидда и Коннор смотрели на сад — неистовое изобилие цветущих бегоний, лилий и последних белоснежных листьев каладиума. До них донесся сладкий запах белых цветов имбиря. Окруженный спутанными гривами испанского мха, свисающего с гигантских виргинских дубов, сад прятался за старой кирпичной оградой, увитой плетями розы «Монтана», на которой кое-где еще остались бутоны. В дальнем конце находились фонтан с маленьким бассейном, по одну сторону которого росла персидская сирень, а по другую — мирта с позолоченными и нарумяненными осенью листьями. Различных сортов камелий, азалий, роз, сальвий и жасмина было так много, что красный кирпич, которым был вымощен сад, почти полностью скрылся под зеленью.
Сидда с восхищением разглядывала гигантский куст камелии с большими набухшими бутонами.
— Я и не знала, что Багги — так звали мою бабушку — была столь известным садоводом.
— О, слава такого рода распространяется только в узком кругу единомышленников, — пояснил Томас и, перекрестившись, пробормотал: — Прости меня, папочка.
Коннор, тоже принадлежавший к клану истинных садоводов, прошептал:
— Эта камелия — настоящее сокровище. «Румянец леди Хьюм» такого размера приравнивается к черной жемчужине. Не думал, что они существуют на самом деле.
— Вам давно пора спать, а я вас задерживаю, — всполошился Томас.
Коннор и Сидда смотрели, как он спускается по ступенькам.
— Поверить не могу, что я в Америке! — пробормотал Коннор.
— Ты и не в Америке. Ты в Луизиане. И мы собираемся провести ночь в переделанных под гостиницу невольничьих бараках, словно скопированных прямо с «Саутерн ливин»[90]. Здесь я невольно чувствую себя виноватой. Подумать, сколько несчастий видели эти стены!
Коннор оглядел гостиную, забитую антиквариатом, пушистыми коврами и гравюрами Одюбона[91].
— Верно, много несчастий. Но жизнь текла и здесь. Парочки занимались любовью, рождались дети, люди пели и плакали. Эти стены, вероятнее всего, видели не только страдания, но и радость.
Только когда они улеглись на гигантскую старую кровать, Сидда вкратце рассказала Коннору о примирении с матерью. Но ей не особенно хотелось говорить. Они любили друг друга: коротко, страстно, яростно, сонно, сладостно. Оба устали. Но потом Сидда не заснула сразу. Коннор гладил ее по спине и напевал. Что-то насчет крошечной луковички, растущей под землей, в зимние холода. Он тихо пел до тех пор, пока голос не прервался, а сам он не заснул.