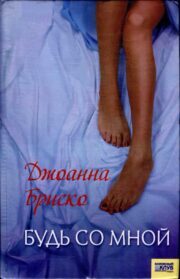Лелия. Она была нужна мне, она и жизнь с ней. Мое предназначение — защищать ее и ребенка, который находился в ней и которого я по-прежнему не мог себе представить. В этот момент прозрения я дал себе обещание, которое для меня было важнее любого свидетельства о браке.
Я шел домой. По правде говоря, нельзя сказать, чтобы этот ребенок был для меня желанным. Но и нежеланным он не был. Желанной была она, а вместе с ней и наш ребенок. И, как все нерадивые и плохие отцы, я попытаюсь себя заставить полюбить его.
Посмотрел на выходившее на площадь окно нашей квартиры и, увидев, что внутри не горит свет, понял, что только от меня зависит, смогу ли я вернуть ее, смогу ли сломать барьер молчаливого отчуждения, понял, насколько все на самом деле просто. Во мне горело желание посвятить себя и всю свою жизнь той любимой женщине, которая стала моей женой. Это откровение и облегчение, которое оно принесло, ошеломляли. У меня даже запершило в горле. Я снова посмотрел на темное окно, отогнал выползший откуда-то страх и бросился вверх по лестнице, повторяя про себя: «Слава Богу, слава Богу, слава тебе, Господи, за то, что предупредил меня». Сердце выскакивало из груди. Я бежал, перепрыгивая через ступеньку. Что бы теперь ни случилось, я больше никогда не предам ни ее, ни ребенка. В квартире было тихо. Но она должна быть дома, наверняка она должна быть дома.
— Лелия! — крикнул я.
Еще раз выкрикнул ее имя и вбежал в комнату. Квартира изменилась. Ее вещей не было.
19
Ричард
Я обхватил голову руками. Запустил пальцы в волосы и медленно царапнул в надежде, что собравшаяся под ногтями перхоть убедит меня в том, что тело мое еще живо, хотя у меня было ощущение, что я умер.
«Когда? — подумал я. — Как?» Когда она узнала? Когда? Когда? Кто? Или она сама догадалась благодаря своей жуткой женской интуиции, которая и про МакДару ей подсказала? Иди она просто решила, что не сможет жить с таким потерянным идиотом, который и двух слов связать не может? Накатила тошнота. В записке, которую она оставила на кухонном столе, говорилось, что она уехала к матери. И все. В конце пририсованы губы, сложенные в поцелуе. Тогда этот поцелуй успокоил меня, дал надежду на то, что все наладится. Я изо всех сил пнул ножку стола, намеренно причиняя себе боль. Стол подпрыгнул и отлетел в другой угол. Может быть, это сама Сильвия призналась ей во всем? Сильвия, которая словно растворилась в воздухе, но присутствие ее продолжало ощущаться во всем.
«Как убить младенца? Я не знала. Я поднимала это пухлое тело на руки и роняла с высоты. Я не могла этого сделать. Я его била, как это делала няня, когда он кашлял, подавившись молоком. Потом била сильнее. Он судорожно задерживал дыхание и через секунду начинал пронзительно кричать. И тогда я начинала его жалеть.
Однажды в детской комнате, куда его приносили на ночь, я спихнула его (катись-катись, вертись-вертись) с вершины лестницы на ковер внизу. Его упитанное тело довольно мягко переваливалось по ступенькам, но в самом низу он ударился лбом о деревянную панель на стене и начал кричать и плеваться так, словно в него вселился дьявол.
Я решила набраться терпения.
Индианка, которая навещала Эмилию, приходила к нам каждый день. Она ходила по дому, источая чары, с видом истукана, которому поклоняются язычники. Ее привлекательность была заключена в волосах, которые локонами рассыпались по плечам. Глаза ее тоже завораживали — два раскосых огромных коричневых камня посреди пустыни. Ей улыбалась даже моя мать. Каждый день она ложилась в ванну, в которой было слышно, как играет Эмилия, и втирала в кожу душистые мази, беззвучно оплакивая отца. Когда индианка с Эмилией возвращались вечером домой, мне хотелось идти рядом с ними, окутаться их запахом, впитать тепло кожи индианки. Всем, чем обладала индианка, хотелось обладать и мне — обаяние, веселая красота, сиротство, которое было эхом моего тайного одиночества. Я хотела жить в ее доме, который находился в том сверкающем городе, о котором я читала. Я хотела жить жизнью индианки».
Когда я бегло просмотрел последнее электронное письмо в своем компьютере, подозрение, которое раньше беспокоило меня, переросло в уверенность. Эта коварная маленькая лиса писала о Лелии, с которой она практически не была знакома. Женщина, которая вторглась в мою жизнь, теперь в своих безумных фантазиях выводила мою жену в виде ребенка, чтобы каким-то образом заинтриговать меня или наказать.
— Зачем вообще нужен этот роман? — как-то раз решился спросить я, когда мы сидели в темном углу кафе. В ответ она лишь отстраненно посмотрела на меня и в своей обычной манере отказалась отвечать.
Ударом по клавише я отправил электронное послание в корзину и позвонил матери Лелии, единственному человеку в Лондоне, без голосовой почты. Гудки продолжались до тех пор, пока «Би-ти»[53] не отрубила звонок.
Никогда еще я не мастурбировал так яростно, как в те дни. Никогда еще я не ходил с такими грязными волосами и не оставлял так много денег в закусочных, где продают готовую еду навынос. Так много я не спал со студенческих времен. По ночам я, как лунатик, бродил по квартире, оглашая ее криками, и валился в постель, изнывая от боли, потея и заворачиваясь в простыню, которую решил не стирать до тех пор, пока ко мне не вернется Лелия.
Я продолжал звонить матери Лелии, но ответа так и не дождался. Я писал ей. Часто я рано утром садился на метро и ехал туда, чтобы встретиться с ней, выходящей из дома, и потребовать объяснений, но безрезультатно. Начал подозревать, что она уехала куда-то в другое место. Мать Лелии, всемогущая Джоан, неизменно отказывалась говорить мне, где находится ее дочь или что с ней происходит, даже если я успевал перехватить ее утром, когда она уходила на работу. У Лелии все «хорошо», она «в безопасности», вот и вся информация, которую я от нее получал. Лелия — моя жена и носит нашего ребенка, говорил я ей в ответ. Вопреки обычной сдержанности престарелая мадам бросала на меня испепеляющий взгляд и уходила на работу. Я смотрел ей вслед с болезненным и вымученным восхищением и возвращался через университет, на тот случай, если Лелия была там, но так и не встретился с ней.
Ее мобильный телефон почти всегда был выключен. Я слал ей эсэмэски, я донимал ее мать, звонил ее тете, на кафедру, немногим ее друзьям, которые оставались оскорбительно вежливыми, и приезжал в университет, но семестр уже закончился, поэтому, когда я видел пустые коридоры и разложенные бумаги, мной овладевало отчаяние. Я даже опустился до того, что обратился к ее сторожевому псу Энзо. Снова умолял ее мать; ругался с ее подругой Сюзанной; звонил на кафедру, где недовольный дежурный администратор вежливо отказывался отвечать на мои вопросы.
— Я же просила тебя оставить меня в покое, — неизменно говорила она, когда мне пару раз удавалось поговорить с ней по телефону. Голос у нее был уставший, такой, что мне становилось страшно.
— Где ты? — кричал я в трубку. — Как у тебя дела? Как ребенок?
— Пока, Ричард, — всегда отвечала она и отказывалась продолжать разговор. — Пока, милый, — один раз сказала она, отчего бешено забилось сердце.
Постепенно квартира сделалась похожей на помойку. Горы бумаг и всяческих дурацких вещей на столе, которые теперь стали так дороги мне, что я не мог на них смотреть, превратились в плато, усыпанное мусором. Сухие листья растений лежали вперемешку со счетами и рекламными буклетами, которые, как магнит, притягивали к себе пыль, штукатурную крошку и какие-то ломкие хлопья непонятного происхождения. Груды бумаг, которые всегда загромождали лестницу, стали жить своей тайной жизнью, как сорняки, угрожающие запутаться у меня в ногах. Ночью мне приходилось вспоминать запутанный маршрут, чтобы пройти по лестнице: сначала два шага, потом нужно, держась узкого прохода, схватиться за перила и перепрыгнуть через пачку бумаг. Однажды я поскользнулся, выругался, больно ударился большим пальцем ноги. Сел на лестницу и расплакался, как безумный.
Моя дорогая мать, чувствуя, что что-то не в порядке, стала названивать мне, и в конце концов я признался ей во всем, откровенно и многословно. Как я ждал ее звонков; как хотел услышать ее тихий встревоженный голос; ее советы, которые были для меня и всем, и ничем одновременно; и даже ее отказ сочувствовать моей панике. С таким же трепетом я когда-то ждал ее многословных открыток, когда по обмену ездил в Германию, где на какой-то вонючей, Богом забытой ферме только то и делал, что курил и возился с мотоциклами.