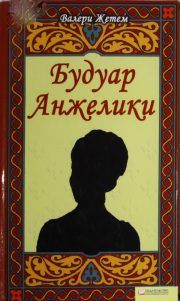Я покачал головой, выгреб из карманов всю свою наличность и вручил ей. Она отсчитала ровно столько, сколько было запрошено, а остальное протянула мне.
— Благодарю вас за добрые намерения, мсье, однако я не нуждаюсь в подаянии.
— О мадам… — энергично запротестовал я, — мне и в голову не могло прийти…
— Просто я не хочу, чтобы эти вещи оказались на мусорке после…
— Я понимаю, мадам, я все понимаю… Но не соблаговолите ли, — неожиданно выспренно проговорил я первое, что пришло в голову, — оказать мне честь отобедать…
— Весьма признательна, мсье, — серьезно ответила она, — но не в моих правилах принимать подобные предложения от незнакомых мужчин.
И она будто растаяла в прозрачном осеннем воздухе, оставив на память о себе тонкий запах духов и натюрморт на куске холста.
Вернувшись домой, я с гордостью показал свое приобретение тетушке Катрин, которая пришла в неописуемый восторг от веера, после чего определил место для гравюры, отныне получившей название «Будуар Анжелики», на стене, что напротив моего рабочего стола, укрепил ее на прочном гвозде, сел в кресло, положив справа от себя веер, а слева — книгу «Анжелика», в некотором смысле подражая Конан Дойлю, на столе которого неизменно лежали лупа и револьвер, и погрузился в размышления, навеянные сегодняшней экскурсией на Saint-Ouen.
Набор приобретенных мною вещей трудно было бы назвать случайным, как, пожалуй, и встречу со старой дамой, но что, что из всего этого должно было следовать?
Я взял в руки веер, раскрыл его, полюбовался замысловатой резьбой костяных пластин, свернул, прислушиваясь к их шелестящей мелодии, и вдруг совершенно явственно услышал ее развитие, исполняемое скорее всего на клавесине, который, казалось, находился где-то неподалеку, возможно, в соседней комнате. Подняв глаза на гравюру, я увидел, что ее рама медленно раздвигается, а вместе с нею и плоскость рисунка, захватывая все больше пространства на стене и приобретая третье измерение, в котором дама и два ее кавалера стали совершенно реальными, как и весь будуар с его затянутыми розовым шелком стенами, мебелью, большой клеткой с попугаем и толстым ковром на полу…
Я не знаю, как следовало назвать открывшийся передо мной мир, параллельным, потусторонним или еще каким-либо, но это был мир, огромный, многогранный, бурлящий неистребимой жизнью, который сконцентрировался сейчас в этом будуаре, отражающем его характерные особенности так же, как капля океанской воды содержит в себе все свойства океана.
Сейчас этот мир, который Вилли Шекспир назвал театром, демонстрировал передо мной, наверное, самые яркие, самые выразительные свои сцены и, право же, совсем не для того, чтобы я ограничился ролью безучастного зеваки.
Вот почему я поспешил положить перед собой пачку бумаги, на первом листе которой старательно вывел крупными буквами:
«БУДУАР АНЖЕЛИКИ»
И начал описывать все, что довелось там увидеть и услышать…
I
Все могут короли
— Гражданские права — это нечто такое, чего нельзя отнять у людей, не обесчестив себя.
— Значит, это не деньги, — заметила девочка.
— Совершенно верно, Анжелика, ты не по возрасту сообразительна, — похвалил ее старый барон.
Войдя в будуар, я понял, что остаюсь невидимым для тех, кто сейчас находился там. Анжелика, обратив в мою сторону слепой взгляд, с явным неудовольствием выслушивала сбивчивую речь господина в черном, за минуту до этого приветствовавшего ее церемонным поклоном.
— О мадам, — протянул он гнусавым голосом, видимо, изо всех сил стараясь придать ему сладко-льстивый оттенок, — я уповаю на вас как на последнюю надежду…
— Но с чего вы взяли, господин де Монтеспан, что я могу быть хоть чем-то полезна вам, тем более в таком щекотливом деле?
— О, вы так влиятельны…
— Я? — покачала головой красавица. — Женщина, мужа которой совсем недавно казнили на Гревской площади по нелепому, абсолютно надуманному обвинению? Женщина, у которой конфисковали все имущество, приговорив к нищете и унижениям? Я — влиятельна?! Вы шутите, сударь!
— Тем не менее, вам стоит произнести всего лишь слово, одно слово, и… — проговорил второй мужчина.
— И что? Что, де Грие? Мне возвратят мои поместья? Да, весьма вероятно. Но кто возвратит мне мужа? Кто восстановит попранную справедливость? Да и, в конце концов, не слишком ли гнусной выглядела бы ситуация, когда человек, сгубивший мужа из самой низменной, плебейской зависти, стал бы обладать его женой?
Она немного помолчала и затем добавила:
— Кроме того, неужели же вы, маркиз де Монтеспан, всерьез полагаете, что кто-то в состоянии сдержать настойчивое желание короля вкусить прелестей вашей очаровательной супруги? Я не представляю себе силы, способной остановить молодого кобеля в его стремлении случиться с сучкой, истекающей любовным соком. А если учесть ответное стремление… Не сочтите оскорбительными эти слова, но так считает весь Париж, и, наверное, не без оснований… А вам, маркиз, по правде говоря, в такой ситуации следовало бы хоть на время скрыться из столицы, иначе как бы вас не постигла судьба моего мужа, да и многих других мужей, чьи жены приглянулись нашему обожаемому монарху.
…Увы, такова природа всех рогоносцев: ненависть оскорбленного владельца живого товара они обрушивают на соблазнителя вместо того, чтобы осознать ту простейшую истину, что женщина выбирает мужчину, а не наоборот, женщина подает разрешающий сигнал и является провокатором адюльтерной ситуации.
Вместо этого осознания и адекватной реакции на возникшую ситуацию рогоносец — в зависимости от своего социального статуса — либо избивает любовника, либо вызывает его на дуэль, где в стремлении отомстить (за что?!) подвергает серьезной опасности собственную жизнь, или изобретает какие-то иные способы причинить вред тому, кого считает своим обидчиком.
Маркиз де Монтеспан не был исключением из общего правила. Возложив всю вину за возникшую коллизию на Людовика XIV и представив себе ее как совращение кроткой овечки свирепым волком, он, не имея возможности вызвать на дуэль короля Франции или каким-то иным способом смыть свой позор, счел за лучшее затаиться, подождать того неизбежного и, как ему казалось, скорого часа, когда утоливший свою похоть волк отпустит на свободу приевшуюся овечку. При этом он пребывал в жесточайшей депрессии, которую тщетно пытался развеять Мольер, специально по этому случаю включивший в одну из своих пьес фразу: «Делить супругу с Юпитером отнюдь не зазорно».
Маркиз де Монтеспан придерживался иного мнения на этот счет, но все же в глубине души, наверное, не терял слабой тени надежды… Эта надежда на возвращение жены подпитывалась еще и тем обстоятельством, что ее отношения с королем носили характер не периодических тайных свиданий, способных долгие годы поддерживать огонь любовного костра, а практически совместного проживания во дворце, когда фаворитка становится некоей эрзац-супругой, что неизменно должно было бы привести к взаимному охлаждению.
Маркиза переселилась во дворец сразу же после первой ночи, проведенной на королевском ложе, когда она оглашала монаршьи апартаменты дикими криками удовлетворенной похоти, пугавшими стоявших на часах швейцарских гвардейцев и доставлявшими огромное удовольствие королю, принимавшего, как и многие мужчины, эти крики за выражение подлинной страсти.
Но красавица маркиза обладала еще целым рядом качеств, совершенно неизвестных ее благоверному и накрепко привязавших к ней неуемного короля. Кроме имитации бешеной, испепеляющей страсти, она умела поддерживать в Людовике постоянное, непреходящее желание обладания ею, близкое к тому состоянию, которое медики определяют как сатириазис, но направленный лишь на определенный объект.
Во время близости маркиза де Монтеспан умелым сочетанием приемов традиционного соития с элементами петтинга, орального и анального секса вызывала у своего партнера не только постоянное желание обладать ею, но и чувство гордости за свои уникальные данные, способные, как оказалось, реализоваться с этой и только с этой женщиной…
Оставив попытки каким-то образом воздействовать на обуянного похотью молодого короля, покинутый муж после нескольких недель бесплодного ожидания возвращения блудной овечки уехал в свое имение, где последующие три месяца провел в состоянии черной меланхолии.