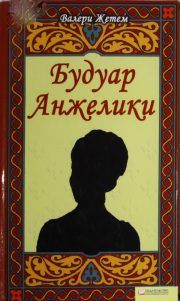Услужливая память извлекла из какого-то захламленного своего закоулка нечто застольно-эпатирующее:
…Вечером, перед закрытием, покупатель входит в колбасную лавку. Спрашивает сырокопченой колбасы.
— К сожалению, мсье, — разводит руками хозяин, — все уже раскупили. Приходите завтра утром.
— Но как же… А это что? — спрашивает покупатель, указывая на увесистую палку сырокопченой в руках дочери хозяина.
— Ах, это… — пожимает плечами колбасник. — Это — мой зять…
Маркиза погрузила белый жезл в воду и откинулась на пологий край мраморной раковины, вздрагивая и выгибаясь в ответ на движения рук, скрытых обильной пеной. Через некоторое время ее тело забилось в конвульсии, а с чувственных губ сорвался резкий вскрик.
Да, наслаждение может быть целью, а может быть и средством, которое оправдывается целью, не имеющей никакого отношения к этому самому наслаждению…
Я вышел из дворца и направился к воротам, неподалеку от которых продолжал страдать в одиночестве маркиз де Монтеспан. Но когда я приблизился к нему на расстояние примерно в тридцать шагов, меня обогнали двое субъектов, затянутых во все черное, при шпагах и пистолетах, насколько я успел заметить.
Они подошли к маркизу. Один из них что-то произнес, после чего де Монтеспан вдруг как-то сник, будто наткнувшийся на гвоздь волейбольный мяч, и покорно последовал за незнакомцами к стоящей поодаль черной карете.
Уже занеся ногу на ступеньку, он подал знак своему кучеру следовать за ним и скрылся в глубине кареты, которая сразу же помчалась в направлении Парижа.
Так выполнялось распоряжение Людовика XIV препроводить безутешного маркиза в Бастилию, где тот провел достаточно долгое время в философских раздумьях, после чего отправился в свое имение, где проживал до самых последних своих дней.
Достаточно наглядный и при этом далеко не самый жестокий пример проявления абсолютизма.
Этот термин, впрочем, едва ли можно признать точным и исчерпывающим.
В ту эпоху верховная власть во многих странах была либо самодержавно-деспотичной на манер Московии или Османской империи, либо аморфно-коллективной, как в Речи Посполитой, и только лишь небольшое число государств, таких как Франция, Испания или Австрия, тяготели к подлинному абсолютизму, когда в законодательном порядке усиливается процесс централизации и ослабляется влияние представительских органов власти, как и родовой аристократии. Нечто меньшее, чем беспредел восточных владык, но и нечто большее, чем то, что принято называть просвещенной монархией.
Например, при Людовике XIII, отце нынешнего монарха, самой высшей гражданской доблестью считалась преданность королевской особе, безоговорочная, безусловная и беспредельная, что в определенной мере подтверждается следующим историческим анекдотом.
Людовик XIII обращается к придворной красавице графине д’Эспарбэ:
— Вы что же, мадам, спали со всеми моими подданными?
— О что вы, сир!
— Но вы же отдавались герцогу де Шуазелю?
— Он так могуществен…
— А графу де Рошфору?
— Он так остроумен…
— А де Монвилю?
— У него такие красивые ноги…
— М-да… Допустим… Но, черт возьми, ведь герцог д’Омон не обладает ни одним из этих достоинств, и тем не менее…
— О сир! Он так предан вам!
Формулой абсолютизма, формулой эпохи Людовика XIV, можно считать когда-то произнесенную им (или приписываемую ему) фразу, ставшую крылатой: «Государство — это я».
Он буквально излучал непоколебимую уверенность в собственной непогрешимости и универсальности, позволяющей быть авторитетным экспертом по всем без исключения вопросам государственного бытия. При этом он, не обладая сколько-нибудь глубокими познаниями в какой-либо определенной сфере, блестяще владел искусством преподнесения себя в роли олицетворенной истины.
В своем письме к маркизу де Вилару (от 8 сентября 1688 года) Людовик XIV заметил: «Приумножать собственное величие — наиболее достойная и наиболее приятная деятельность суверена».
И он приумножал это величие, не жалея ни времени, ни усилий. Его роскошный дворец в Версале излучал такое нестерпимо яркое великолепие, что оно способно было озарить всю Францию и вселить в каждого француза непоколебимую уверенность в благополучии и необоримой силе государства, которое замыкалось всего лишь на одном человеке, названном «король-солнце», Roi Soleil.
Он и сам по себе был довольно впечатляющей рекламой величия Франции: высокий, красивый, величественный, к тому же прекрасный наездник, смелый охотник, талантливый артист, баловень женщин и воинствующий оптимист.
Он любил устраивать пышные празднества, воспроизводящие дух античных вакханалий, с их массовыми совокуплениями и возлияниями в честь Венеры и Бахуса.
Высшее католическое духовенство, как это всегда бывает в тех случаях, когда не затрагиваются его коренные интересы, смотрело сквозь пальцы на эти языческие оргии, в которых тайно принимал участие сам Арле де Шанвалон, архиепископ Парижский, которому немало перепадало от королевских щедрот и дорогих вин, и недорогого женского тела, да еще и, как правило, увенчанного графской или герцогской короной.
Де Шанвалон, человек патологически жестокий, развращенный и коварный, имел огромное влияние на короля, которого неудержимо тянуло к пороку в любых его проявлениях. Только этим влиянием и можно объяснить такой немыслимый по своему державному вероломству поступок, как отмену Людовиком XIV в октябре 1685 года принятого его отцом на вечные времена Нантского эдикта, гарантирующего Франции веротерпимость и категорически исключающего рецидив Варфоломеевской ночи, когда была устроена массовая резня гугенотов.
Если фраза «Государство — это я» и впрямь означала нечто большее, чем эффектное сотрясение воздуха, то налицо была величайшая государственная подлость, которую не могут оправдать никакие фарисейские соображения типа «единство нации» или «благо большинства народа» — стандартный камуфляж самого плебейского вероломства тех, кто так гордится незапятнанностью своей аристократической чести.
Людовик XIV