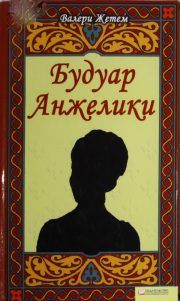При всем этом — что полностью совпадает с версией Дюма — Анна гневно отвергла любовные притязания всесильного герцога Армана Жана дю Плесси де Ришелье, знаменитого кардинала и воина, фактически правившего Францией вместо ее никчёмного супруга.
Ревновал ли он Анну Австрийскую? Действительно ли намеревался опорочить ее в глазах Людовика XIII? Наверное, да, но его действия были мотивированы не столько ревностью или обидой отвергнутого самца, сколько досадой на эту бездумную чету, которая свои удовольствия ставила выше интересов страны, готовой попросту расслоиться, развалиться без мощного цементирующего начала.
Ришелье, которого историк Жюль Мишле назвал «сфинксом в красной мантии», тогда решительно сместил многих наместников провинций и заменил их людьми не столь знатными, но зато мыслящими категориями государственности, а не торгашеского своекорыстия.
Столь же решительно первый министр двора пресекал рецидивы феодального своеволия поместной знати. Многие и многие из разряда «неприкасаемых» угодили если не на эшафот, то за тюремную решетку. Те из них, кто решил укрыться от цепких рук власти в родовых укрепленных замках, вынуждены были в итоге выбирать между срытием наружных стен своих феодальных гнезд и отсидкой в Бастилии.
В довершение ко всему кардинал Ришелье под страхом смерти запретил дуэли — кровавую забаву гордецов, которым было внятно сказано, что дворянин может проливать кровь только на королевской службе, и нигде более.
Конечно, недовольные ответили на эти меры целой серией заговоров, однако они, благодаря разветвленной агентурной сети трезво мыслящего кардинала, раскрывались еще на стадии своего созревания.
Король при этом занимал отрешенно-нейтральную позицию, видимо, отрабатывая прозвище Справедливый, а вот Анна Австрийская откровенно принимала сторону оппозиционеров, так что негативная реакция на ее деятельность со стороны Ришелье была вполне оправдана. Бывают ситуации, когда требуется обезвредить опасного противника, и тут уже не имеет никакого значения, красивая ли это женщина, давний приятель или даже родной брат. Иначе нужно предоставить этому противнику возможность взять верх, победить, однако на подобные мазохистские проявления имеют право разве что частные лица, но никак не государственные деятели.
Однако в 1642 году ушел в безмятежные дали грозный кардинал, а год спустя за ним последовал Людовик XIII, и в Париж приезжает в качестве представителя Ватикана некий Джулио Мазарини, очень скоро ставший кардиналом Мазарини, преемником великого Ришелье.
Сын итальянского рыбака, затем прислужник римского кардинала Бентиволио и его протеже на ватиканском поприще, Мазарини быстро осваивается в новой для него обстановке и очаровывает королеву-регентшу Анну Австрийскую, которая правит страной за малолетнего сына Людовика XIV.
И вот чопорная и надменная королева в свои сорок три или сорок четыре года со всем пылом нерастраченной страсти бросается в скандальную интригу с итальянским авантюристом, бросается безоглядно и бездумно.
Следствием этого был целый ряд политических событий, в частности резкая активизация оппозиционного дворянского движения, названного Фрондой, когда толпы парижан скандировали на площадях Парижа: «Долой Мазарини!», но королева-регентша свои влечения ставила выше соображений гражданского мира в государстве.
Гражданский мир — понятие довольно неоднозначное и требующее неформального подхода, потому что искусственно созданная видимость такого мира чревата гораздо более тяжкими последствиями, чем открытый конфликт, который так или иначе выдохнется, исчерпав себя.
То же самое, что нарыв, требующий не примочек, а скальпеля хирурга.
Отдавая должное кардиналу Мазарини, следует заметить, что в борьбе с Фрондой он проявил себя искусным дипломатом и в то же время достаточно непреклонным защитником абсолютной королевской власти. Этот человек умел, если требовалось, четко произносить слово «нет», и в основном именно за эту четкость он считался одним из самых влиятельных политиков своей эпохи. Он добился политической гегемонии Франции в Европе, прибегая подчас к нестандартным и смелым решениям, по достоинству оцененным его современниками.
Конечно, этот человек был далеко не бескорыстен, если принять во внимание огромное состояние, которое он сколотил, сидя в кресле первого министра французского королевского двора. Что и говорить, он себя не забывал, но при этом не забывал и дело, которому служил.
Мазарини, кто бы и что бы ни говорил о нем, обладал тем, что создал — в той или иной степени, но все же создал, сотворил из ничего что-то, а не наоборот, как многие и многие из тех, кто претендует на славу и вечную историческую память.
А еще он обладал Анной Австрийской, и это было загадкой, над которой ломали головы и современники этой странной пары, и их потомки. Действительно, неужели же Анна Австрийская не могла найти менее компрометирующего сексуального партнера, в особенности тогда, когда он еще не был признанным всею Европой государственным деятелем, а был просто чужеземцем весьма сомнительного происхождения и неопределенных намерений?
Когда в ту пору близкая подруга королевы, герцогиня де Шеврез, как-то завела разговор на эту тему, та расхохоталась:
— И ты веришь этим нелепым сплетням? У нас с ним не может быть ничего общего в этом плане хотя бы потому, что он итальянец. Понимаешь? И-таль-я-нец!
Герцогиня де Шеврез была достаточно опытной женщиной и, конечно же, поняла, что ее подруга имеет в виду так называемую «итальянскую любовь», попросту говоря, анальный секс, который традиционно считается пристрастием всех итальянцев. Но даже если и так, то в чем тут проблема?
Герцогиня пришла к выводу, что Анна лукавит и, что более чем вероятно, вовсю занимается с этим одиозным брюнетом его «итальянской любовью», разве что в знак благодарности за обучение давая ему уроки «французской любви», каковой, тоже традиционно, считается оральный секс.
Вспоминается бородатый анекдот:
— Ваша жена — француженка?
— Нет, я сам ее научил.
Так или иначе, но версия относительно привязанности Анны к Мазарини на почве сексуального гурманства была одной из самых распространенных и в то время, и в последующие. Впрочем, версия — это всего лишь предположение, не более того…
В принципе этот роман привлекал к себе внимание прежде всего высоким социальным статусом его участников, а не какими-либо подробностями, которыми в ту эпоху трудно было бы кого-то удивить.
Тогда блистала великосветская гетера Нинон де Ланкло, которую всерьез превозносили как образец добродетели. Благонамеренные матери водили к ней в дом, где процветал самый откровенный, самый изощренный разврат, своих подрастающих дочерей, чтобы те усваивали правила хорошего тона.
Самые ортодоксальные моралисты того времени не находили ничего предосудительного в поведении этой алчной жрицы любви, способной обслужить в течение одного вечера не менее дюжины достаточно требовательных сластолюбцев.
Мольер, страстно порицавший порок в своих знаменитых комедиях, не только благосклонно отзывался о Нинон де Ланкло, но и увековечил ее в образе Селимены. Впрочем, ситуация отнюдь не нова: античные драматурги часто увековечивали известных гетер в обмен на ласки достаточно высокого класса, так что великий французский комедиограф, весьма вероятно, попросту пошел по стопам Аристофана или Евполида.
Как и Людовик XIV, став королем, пошел по стопам своего отца в плане исполнения роли капризного баловня, которому ни в чем не должно быть отказа, потому что он есть государство, истина в последней инстанции, животворное Солнце и никак не иначе… Его Версаль был, бесспорно, самым блестящим из королевских дворцов Европы. Великолепные празднества, балы, спектакли, фейерверки, немыслимая, фантастическая, режущая глаз роскошь придавали Версалю статус законодателя мод, манер, нравов — всего того, что принято считать великосветской жизнью в самом широком смысле этого понятия.
Элементами этой жизни были и возникшие при Людовике Парижская Академия наук, Королевская музыкальная академия и Обсерватория. Это было необычайно престижно и работало на формирование имиджа неустанного покровителя наук и искусств.
Между прочим, когда в 1665 году была поставлена антиклерикальная комедия Мольера «Тартюф», Людовик горячо приветствовал ее, что не помешало ему строго запретить ее в 1680 году, причем без каких-либо объяснений.