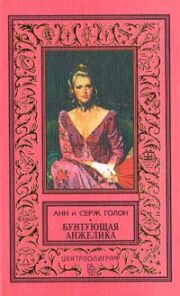— Надо отсрочить казнь. Мы желаем рассмотреть дело этого человека.
Он обернулся к де Бриенну и продиктовал приказ о помиловании. Братья, все еще стоявшие на коленях, уловили его реплику:
— ..Он будет работать в мастерских господина Лебрена.
Альбер и Дени бросились через темный парк к зловонному болоту, которому предстояло стать дворцовым прудом. Но они опоздали: Гонтран де Сансе де Монтелу раскачивался на ветвях дуба напротив белеющего в сумерках замка.
Под кваканье лягушек братья обрезали веревку. Альбер отправился за каретой, лакеем и кучером. Наутро экипаж выехал в Пуату. Без остановок, под раскаленным летним солнцем и в светлых ночных сумерках, они мчались, снедаемые желанием поскорей предать земле предков это большое тело с неподвижными и уже бесполезными руками, как если бы одна лишь эта земля была способна залечить все раны и стереть выражение едкой скорби, запечатленное в чертах распухшего лица.
Гонтран-ремесленник! Художник Гонтран! Тот, кому чудилась мелкая веселая нечисть в тусклой полировке медных котлов на кухне родного Монтелу, кто перетирал красную кошениль и желтую глину, чтобы рисовать на стенах, и пьянел от сочной лесной зелени, как от терпкого ликера. Юноша с дикой и потаенно щедрой душой!
Рыдая как дети, Дени и Альбер погребли тело у сельской церкви Монтелу, около могил их семьи.
— Потом, — продолжал свой рассказ Дени, — я вернулся в замок. Там все было мертво, ни детских голосов, ни людского говора. Только на кухне я нашел кормилицу Фантину с глазами, как уголья, и тетушку Марту. Она ничуть не изменилась, такая же горбатая, тучная, со своим всегдашним вышиванием на коленях. Эти две старые вещуньи лущили горох и что-то бормотали.
Там я и остался. Ты же знаешь, наш отец написал в завещании: «Наследство перейдет тому сыну, который останется на земле»… Почему бы не мне? Я вернулся к своим мулам, стал встречаться с тамошними фермерами, женился.., на Терезе де Ламайер. Она без приданого, но с хорошей репутацией и очень милая. На Преображенье у нас будет ребенок.
— Стало быть, — завершил свое повествование новоиспеченный барон де Монтелу, — вот что господин де Марильяк велел тебе сообщить. То есть, понятно, не о моей женитьбе, а о деле Гонтрана. Чтобы ты рассудила хорошенько, чем ты обязана королю после стольких оскорблений с твоей стороны и со стороны нашего семейства. Но я думаю…
Дени вгляделся в лицо сестры, на которую он, младший брат, всегда взирал не без некоторого страха — страха перед ее красотой, дерзостью и таинственностью ее частых побегов. Вот и сейчас она вернулась какой-то непохожей, чужой… Щеки чуть ввалились, явственнее проступила тонкая лепка скул. Она стояла бледная, застывшая, в самое сердце пораженная услышанным. С тайной радостью и испугом Дени почувствовал: она не уступит, будет, как всегда, верна себе. Но ей предстоят отнюдь не мирные дни. И он прошептал:
— Господин де Марильяк очень плохо тебя знает. Спроси он меня, как тебя окоротить, я бы никогда не посоветовал ему сообщать тебе, что один из Сансе де Монтелу повешен именем короля.
Глава 5
С тех пор как Анжелика возвратилась домой, к ней ежедневно являлся с докладом управитель поместья Молин. Со счетными книгами под мышкой старик медленно поднимался по широкой аллее, ведущей от его каменного дома с черепичной крышей к замку.
Человек независимый, зажиточный буржуа, ловко ведущий свои дела, мэтр Молин истово служил интересам семьи Плесси-Белльер. Под защитой своей должности он весьма ловко распоряжался и собственным достоянием. Ни Анжелика, ни покойный Филипп не имели представления, чем, собственно, занимается мэтр Молин. Они знали одно: он неизменно появлялся, когда в нем возникала нужда, будь то в Париже, когда обитателей замка призывали ко двору, или в Плесси, когда их постигала опала.
Вот и среди тех, кто встречал беглянку в родном замке, выделялась суровая физиономия Молина, которая в старости стала напоминать внушительные лица древнеримских патрициев. Он одним из первых склонился над полубесчувственным телом Анжелики, которое два мушкетера извлекали из кареты, в то время как де Бретей игривым тоном скликал прислугу:
— Я привез вам госпожу дю Плесси! Она при смерти. Ей осталось жить всего несколько дней…
Лицо интенданта осталось бесстрастным. Он приветствовал Анжелику совершенно так, как если бы она явилась на день-два из Версаля для того, чтобы обсудить продажу какой-нибудь фермы в уплату карточных долгов. Но вслушавшись в его монотонную речь о бедствиях и неурожае, постигнувших Плесси, она почувствовала облегчение. К ней, бог весть почему, вернулось ощущение безопасности.
Он ни в чем не упрекнул ее. Ни о чем не спросил, хотя роль Молина в делах семейства и прочные связи с его судьбой давали ему такое право. Он молчал. Ни словом не обмолвился о том, в какое смятение привел его неожиданный отъезд Анжелики, какие быстрые и смелые маневры он предпринял, спасая доходы семьи от всепожирающей напасти. Ведь известно, что немилость властей предвещает скорое разорение. Уже собирались те крысы, вороны и кишащие черви, что обычно набрасываются на пошатнувшиеся состояния. Молин везде навел порядок, поручился по векселям, успокоил кредиторов. «Госпожа дю Плесси путешествует, — говорил он, — она должна вернуться. Никаких распродаж не предвидится». — «А как же король? — спрашивали у него. — Все же знают, что госпожа дю Плесси навлекла на себя гнев короля, она арестована, посажена под замок!»
Молин равнодушно пожимал плечами. Кому, как не ему, знать истинное положение вещей? А поскольку слыл он человеком хитрым, изворотливым и понимающим свою выгоду, волнения улеглись. Все соглашались подождать. Весь этот год, когда неопределенность жребия, выпавшего Анжелике, смущала умы, интендант не выпускал из железных рук бразды правления замком и достоянием беглой маркизы, а также ее малолетнего наследника Шарля-Анри. Благодаря ему вся прислуга осталась на месте — как в замке, так и в парижских особняках на улице Ботрейн и в предместье Сент-Антуан.
Теперь Молин слал во все концы письма, где возвещал о приезде маркизы. Конечно, он не упоминал о королевской страже в Плесси, но говорил о дружеском расположении государя и о том, что владелица поместья вот-вот займется своими делами и проявит здравомыслие и настойчивость, столь ценимые в ней господином Кольбером. Все это предназначалось глазам и ушам парижских торговцев и судовладельцев из Гавра, с которыми Анжелика вела дела.
В ее владениях интендант с прежней аккуратностью объезжал арендаторов, следил за счетами, посевами и ходом работ. Протестанты пользовались таким же его вниманием, как и католики. Они показывали ему на солдат, отправленных к ним на постой, пожиравших их припасы и травивших лошадьми посевы овса. Это были так называемые «миссионеры господина де Марильяка», призванные обратить протестантов в истинную веру. Мэтр Молин воздерживался от комментариев и напоминал фермерам об их долгах, помеченных в его счетных книгах. «Что нам делать, мэтр Молин? Вы что, тоже из тех, кто борется с Кальвином? — спрашивали крестьяне-гугеноты, стоя перед ним с огромными своими черными шляпами у колен и сверля его сумрачными глазами фанатиков. — Должны ли мы отрекаться, чтобы сохранить наше добро, или примириться с разорением?» — «Потерпите», — отвечал он.
Драгуны нагрянули и к нему, разграбили его зажиточный дом у парка, спалили сто фунтов свечей и два дня и две ночи не давали ему спать. Они колотили в сковородки и орали: «Отрекись от ереси, старый лис, отрекись!»
Это произошло до возвращения Анжелики. Монтадур таким образом примеривался к обязанностям стража одной из красивейших женщин королевства. Но поскольку госпожа дю Плесси не принадлежала к реформатской церкви, Марильяк велел оставить ее челядь в покое.
Переведя дух, Молин принялся ежедневно посещать замок, а Монтадур, почитавший его самым зловредным из тамошних гугенотов из-за его влияния на крестьян, неизменно кричал ему вслед: «Когда же ты покаешься, старый еретик?»
Когда Молин впервые увидел Анжелику с порозовевшими щеками, отдыхающей в гостиной принца Конде, он глубоко вздохнул и прикрыл веки — она готова была поспорить, что в этот миг интендант вознес Господу благодарственную молитву. Это так не сочеталось с его обычными манерами, что она слегка забеспокоилась. Именно тогда он впервые упомянул о разорении и голоде, угрожающих всем с тех пор, как де Марильяк решился обратить Пуату в католичество.