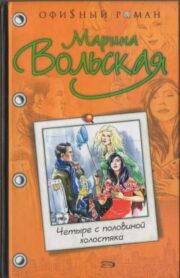Ей повезло. Она не видела Конькова с Любой. Они стояли на остановке, и он, похоже, уже был прикован к ней намертво, потому что не замечал никого и ничего. Я его понимала. Все мужчины, стоящие на остановке, тоже его понимали и завидовали ему. Это было слишком отчетливо написано на их лицах. Вчера на скамеечке у дома я видела Любу сидящей. Сейчас она стояла и во всей красе демонстрировала окружающим свою стать. Ее нельзя было назвать стройной, но и полной – язык не повернулся бы. Она была, что называется, в теле, но красиво сложена и длиннонога. Фигура драпировалась в легкое светлое платье, обнажающее плечи и гармонирующее с медовой кожей.
Константин Ильич никак не прореагировал на мой сверлящий взгляд, и я, совершенно уничтоженная, поехала домой. Поделом мне! Получила по заслугам. Перефразируя Библию, можно сказать: не возжелай возлюбленного ближнего твоего (то есть Танечки). Мимо меня в окне автобуса плыл какой-то смазанный, размытый, тонущий город. Я не сразу поняла, что Петербург тонет в слезах, изливающихся из моих глаз.
Выйдя из автобуса, я даже не зашла по пути в магазин и, в конце концов, оказалась дома наедине с пустым холодильником. Вот и хорошо, что ничего нет! Ну и пусть! Зачем мне есть? Чтобы жить? А зачем жить? Пожалуй, стоит купить с Беспрозванных детское приданое, да и… Предложение я не додумала, потому что и так уже было очень жалко себя.
Как гром, грянул дверной звонок. Шаркающей походкой человека, которому осталось жить от силы каких-нибудь полмесяца, я пошла открывать. Наверняка соседка трезвонит – принесла двести рублей, которые брала накануне.
На пороге стоял Константин Ильич Коньков. Весь в черном. Специально переоделся, подумала я. И не испугалась. Его наряд как раз соответствовал моему погребальному настроению.
Я включила в прихожей свет, и Коньков сразу преобразился. Он улыбался. На нем оказалась тонкая шелковая рубашка темно-серого цвета и сто раз виденные мной черные джинсы. Поскольку на улице по-прежнему стояла жара, его рубашка была расстегнута чуть ли не до пояса. Тонкая полоска кожи казалась светлым галстуком.
Поджарый, длинноногий, косящий от волнения глазом, Коньков очень соответствовал своей фамилии и напоминал породистого арабского скакуна, хотя, если честно, я никогда в жизни не видела породистых арабских скакунов. Да и непородистых тоже… Я изо всех сил себя сдерживала, чтобы не прижаться губами к его белеющей среди темно-серого шелка груди. Конечно же, это ему не надо. Он наверняка пришел извиниться за то, что обнадежил меня на лестнице Инженерного Корпуса. Он же интеллигентный человек.
– Вот… – по-детски расстроенно сказал Константин Ильич и вытащил из-за спины сломанную у самого венчика огромную пурпурную розу. – В автобусе не уберег…
Я взяла в обе ладони прохладный венчик. Отходя от жары, цветок, как живое существо, шевелил лепестками. Я понесла его в кухню и пристроила на жительство в широкую кобальтовую чашку. Роза с комфортом разложила по воде бархатные лепестки и разразилась на всю кухню ароматом. Я подняла голову к Конькову. Он смотрел на меня взглядом, значения которого я понять не могла, а сравнение с розой явно было не в мою пользу.
Теперь, когда цветок расположился в моей чашке, как дома, имело смысл поставить все точки над «i».
– Вы пришли проститься? – спросила я.
– Почему проститься? – Константин Ильич очень внимательно на меня посмотрел.
– Ну… та женщина… на остановке… Я вас видела, а вы меня даже не заметили…
– А! Люба!
«Ну вот… Она для него уже просто Люба!» – погребальным колоколом прозвенело в моей голове.
– Да… Люба… Вы, очевидно, спешите к ней?
– К ней? Нет, она поехала одна. Я дал ей записку к врачу.
– К какому врачу? – охнула я. Неужели эта Хозяйка Медной горы что-то задумала сделать с Наташей? Она ведь сейчас в дородовом…
– Подождите, Альбина Александровна, я что-то вас не понимаю… Вы что, тоже знакомы с ней?
– Ну… вообще-то… да. А вы?
– А я только сегодня с ней познакомился. Мой подчиненный, Юрий… ну вы его не знаете… Так вот: он попал в больницу. У него ужасный аппендицит… с перитонитом. В общем состояние очень тяжелое. А Люба, она его сестра, просила, чтобы я помог ей перевести Юрия в другую больницу, потому что… ну вы знаете, какой иногда в больницах бывает уход. Вот она и хотела, чтобы я с ней проехал в другую, в Елизаветинскую, чтобы договориться.
– И почему же вы не поехали?
– Да у меня там как раз школьный друг главврачом работает. Я написал ей для него записку. Она, конечно, стеснялась, уговаривала меня поехать с ней. Но вы же понимаете… Я не мог… я должен был… вы же меня ждали… Или нет?
– Ждала, – выдохнула я.
Ну и Люба! Такое впечатление, что у нее по всему Питеру разветвленная агентурная сеть. Она все про всех знает. Узнала даже про болезнь подчиненного Конькова. И ведь какая уверенность в собственных силах! Никакой сестрой она Юрию не является, значит, надеялась, что под ее чарами Коньков до больницы и не доедет. Ну и женщина! Вроде бы все продумала, и вдруг такой прокол – друг Конькова главврачом оказался. Недоработочка у вас, Воплощенная Любовь, упущение… А Константин Ильич-то каков! Не польстился. Милый… любимый… Самый главный мой человек…
– Мы теперь ни за что не станем торопиться, – сказал он, опять смущенно улыбаясь.
– Быстрота операций уже ни на что не сможет повлиять, – ответила я и прижалась наконец к его груди. – Все теперь будет идти своим чередом. Мне надо было просто захотеть! Прости меня, Костя…
Конечно же, он обнял меня. И поцеловал бы так, что я вся растворилась бы в его поцелуе… если бы не раздался невероятный стук в дверь, вперемежку с отвратительными по своей длине звонками. Я с сожалением оторвалась от Конькова и пошла открывать дверь. В прихожую смерчем ворвался мой возлюбленный зять Вася Половцев и иерихонской трубой после капитальной прочистки завопил:
– Альбина Александровна! Соня рожает! Отвез в Отто! Ужасный кошмар! Что делать?!
Не успела я охнуть по поводу того, что роды дочери случились раньше времени, как в комнате зазвонил телефон. Это был Беспрозванных. В отличие от Васи, он просипел в трубку совершенно обессиленным голосом:
– Альбина… Наточка рожает… Тихий ужас… Я совершенно не представляю, что мне теперь делать…