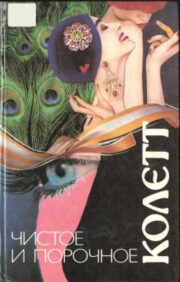Он бросил на меня суровый взгляд.
– …а ваша особенность.
Время было позднее, и холод промозглой ночи просачивался между занавесями, скреплёнными английской булавкой. Если бы не это, я рассказала бы приятелю о своём собственном «Дон Жуане». Но с наступлением нового дня X. всё больше хмурился, размышляя о своей работе и своих развлечениях. По-моему, последние доставляли ему больше хлопот, ибо с возрастом человек рассчитывает скорее побеждать в одиночку, чем веселиться вдвоём.
Когда мы расстались, дождь кончился, и я предпочла вернуться домой одна, пешком. Мой друг-соблазнитель удалился походкой длинноногого мужчины, и я сочла, что он хорошо смотрится. Дон Жуан? Если вам угодно. Если женщинам угодно… Однако этот повеса стал жертвой собственной славы и, кроме того, растрачивает себя с пунктуальностью боязливого должника.
Вскоре мы встретились снова. Он, как обычно, казался очень нервным человеком, который то стареет за четверть часа, то молодеет за пять минут. Его молодость и старость проистекают из одного источника: женского взгляда, рта или тела. За тридцать пять лет мастерского труда и беспорядочных нег у него так и не нашлось времени омолодиться с помощью отдыха. Устраивая себе отдых, он не расстаётся со своей жёлчью, которая продолжает отравлять ему жизнь.
– Я скоро уеду, – сказал он.
– Тем лучше.
Он огляделся, ища взглядом магазинное зеркало.
– Вы находите, что у меня утомлённый вид? Я действительно устал.
– От кого?
– О! От всех женщин, этих дьяволиц… Давайте выпьем апельсинового сока. Здесь или в другом месте… где вам будет угодно.
Когда мы уселись за столик, он пригладил рукой свои волосы, посеребрённые сединой.
– Дьяволицы, – повторила я. – Сколько же их?
– Две. Это кажется пустяком – только две.
Он хорохорился и смеялся, морща свой крупный нос, классический нос волокиты.
– Я их знаю?
– Вы знаете одну из них, ту, что я называю «древней историей». Другая – новенькая.
– Красивая?
Он произнёс «А!», откидывая голову назад и закатывая глаза так, что оставались видны лишь белки.
Этот физиономический эксгибиционизм – одна из черт, которая мне в нём претит.
– Этакая таитянка, – продолжал он. – Дома она разгуливает с распущенными волосами, ниспадающими на спину, с гривой вот такой длины, на фоне полотнища красного шёлка, которое она обматывает вокруг тела…
Он изменил выражение лица, обратив взор к земле.
– Впрочем, это ерунда, показуха, беллетристика, – прибавил он со свирепым видом. – Я не дам себя провести. Она очень мила. У меня нет к ней претензий. Зато другая…
– Она ревнива?
Он взглянул на меня с опаской.
– Ревнива ли она? Именно она – сущая дьяволица. Известно ли вам, что она сотворила? Вы это знаете?
– Сейчас узнаю.
– Она сошлась с новенькой. Теперь они неразлучные подруги. «Древняя история» говорит обо мне с новой. Гнусная манера делиться друг с другом всем… Она рассказывает ей о «наших шашнях», как она выражается. Естественно, она преподносит это как блуд. Она всё преувеличивает, привирает. Тогда таитянка…
– …пытается предъявить вам такой же счёт… Он посмотрел на меня с несвойственным ему грустным смирением.
– Да.
– Дорогой друг, позвольте задать вам один вопрос: у таитянки – подлинная страсть или ею движет спортивная злость и дух состязания?
Мой знаменитый приятель изменился в лице.
Я с удовольствием наблюдала, как сквозь его черты проступают недоверие, коварство и прочие проявления первородной ненависти.
Он смотрел вдаль, сверля взглядом незримого соперника, и наконец выдохнул:
– Старая история… Фу… Если я её не съем, то она съест меня… Я пробуждаю в ней аппетит, она становится лакомкой. Она молода, не бережёт себя, вы понимаете. Это довольно забавно…
Он выпятил грудь, вспомнив о своём излюбленном персонаже:
– Кроме того, когда она в неглиже, это такое зрелище… Что за роскошь!..
Я вспоминаю короткую сцену из «Горячо любимого Селимара», в которой любовник, запертый впопыхах любовницей при появлении мужа, принимается бушевать и барабанить в закрытую дверь руками и ногами.
– Что это? – спрашивает муж.
– Ничего… Рабочие чинят трубу неподалёку, – лепечет дрожащая жена.
– Это невыносимо! Питуа! – приказывает он старому дипломатичному камердинеру. – Скажите-ка этим молодчикам, чтобы они поменьше шумели.
– Дело в том, – возражает смущённый Питуа, – что у них неприветливый вид…
– Вот как? Мокрая курица! Тогда я пойду сам. Он подходит к запертой двери и кричит во весь голос:
– Эй вы, там, потише! Из-за вас ничего не слышно. Воцаряется настороженная тишина…
– Вот как нужно говорить с рабочими, – изрекает муж Питуа. – Я знаю, как с ними разговаривать.
Затем Питуа выходит из комнаты после реплики a parte:[5]
– Я ухожу… Он приводит меня в расстройство. Я ехидно воскресила в памяти реплику Питуа, когда мой приятель X. хвастался своей победой над ненасытной беззащитной простушкой… Позабавившись в душе, я переменила – по крайней мере для вида – тему разговора:
– Дорогой друг, я полагаю, что вы готовите горячий приём нашему собрату с севера?
Лицо X. прояснилось, ибо этот мечтатель давно стоит выше цеховых склок.
– Маасену? Я надеюсь: Колоссальный тип. Я собираюсь поместить о нём статью на первой полосе газеты… В его честь устроят банкет, осыплют звонкой монетой пустых речей. Я хотел бы, чтобы Академия мобилизовала для него свои лучшие силы… Колоссальнейший тип. Вы ещё увидите взлёт его политической карьеры, которая только начинается… Он обладает всем. Это один из тех, кого я называю богатеями. Необыкновенный животный магнетизм, прекрасная золотая голова, моложавый вид…
– Я знаю, знаю… Я знаю даже… ходят слухи, что…
X. наклонился ко мне с живостью ребёнка.
– Какие слухи? Бабские сплетни?
– Разумеется… Поговаривают, что… Придвиньтесь, я не могу об этом кричать…
Я прошептала несколько слов на ухо приятелю, который в ответ присвистнул.
– Вот так штука! Какая информация, дорогая! Даже с цифрами. От кого вы это узнали?
– В сведениях такого рода ни один источник не внушает доверия.
– Прекрасно сказано.
Он приосанился и застегнул пиджак, как спорщик, готовый выбросить новую карту.
Я увидела, как в его глазах зажглись жёлто-бурые огоньки, что случалось с ним в дурные минуты.
– Уж эти мне северяне, – проговорил он шутливым тоном. – Поглядел бы я на них…
Осознав свою досаду, он решил слукавить.
– Впрочем, я не понимаю, какое мне дело до этой детали узора. Когда речь заходит о Маасене, этом великолепном человеческом монументе, мне не следует ничего знать, – прибавил он с резким раздражением, – даже если он прячет в себе будуар с зеркальными стенами и атрибуты публичного дома.
– Естественно, – отвечала я.
Он уплатил за два наших оранжада и подхватил свои перчатки и трость.
– В любом случае дайте мне знать, дружище.
– Дать знать о чём?
– Ну… о приезде Маасена. Я хотела бы побеседовать с ним.
– Ах да… Разумеется. Какой кусачий ветерок, не так ли?
– Ветер с севера…
Он осознал мой бездарный выпад и посмотрел на меня в упор.
– Право, можно подумать, вы считаете, что я завидую Маасену? Всё-таки я ещё не настолько низко пал, чтобы завидовать кому-то физически!
Я сделала мягкий жест в знак отрицания и погладила рукой его шершавую щеку, щеку мужчины в шесть часов вечера… «Дорогой друг, стало быть, существует нефизическая зависть?»
Он удалялся, а я мысленно обращалась к его стройной спине, к размашистой походке с утрированно большими шагами, к шляпе; в первую очередь к шляпе, его выразительной, предательской, непостоянной, вечно озадаченной шляпе, которую он слишком сильно сдвигает то набок, подражая уличным сорванцам, то на затылок, словно представитель богемы, то на лоб: дескать, осторожно, перед вами обидчивый и коварный малый, советуем не наступать ему на ноги… В конечном итоге это шляпа, которая не желает стареть…
Таким образом, мы с X. в очередной раз играючи пробуждали отзвуки грома, который я неохотно величаю его легкомысленным именем – наслаждение. Вероятно, оттого, что оно никогда нам не грозило, когда мы оставались вдвоём, не приковывало нас друг к другу, мы непринуждённо разглагольствовали о нём; вернее, приятель позволял мне разглядывать в своём дивном «брачном оперении», которое так долго ему служило, прорехи и ощипанные перья. По своему обыкновению для начала мы немного говорили о своём ремесле, о прохожих и покойниках, о минувшем и сегодняшнем дне, состязались в милой несговорчивости: «Нет, вовсе нет, я, напротив…», «До чего забавно!