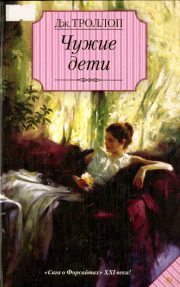— Руфус…
Он ждал. Он смотрел на закрытое капюшоном лицо Бэтмэна на одеяле.
— Руфус, я не хочу говорить тебе этого, я не хочу ранить тебя, не хочу ранить себя, твоего папу или кого-нибудь еще. Но боюсь, я не могу выйти замуж за твоего папу.
Мальчик сглотнул ком в горле. Он тут же вспомнил место, где регистрировали браки в прошлом году, регистраторшу с золотыми сережками-гвоздиками и портрет королевы.
— Ох, — выдохнул он.
— Я бы хотела объяснить тебе все, — сказала Элизабет. — Ты должен знать все причины, но, с одной стороны, это будет некрасиво, а с другой — я полагаю, ты можешь сам догадаться об этом.
Руфус утвердительно кивнул. Он мягко сказал:
— Это же неважно.
— Неважно…
— В школе есть ребята, чьи родители неженаты. Это неважно.
Лицо Элизабет слегка передернулось. На секунду Руфус удивился, не заплачет ли она, но подруга отца нашла бумажный платок в своем кармане и высморкалась.
— Мне жаль…
Он ждал.
— Мне жаль, — сказала Элизабет, и ее голос стал неровным. — Мне так жаль, Руфус, но я даже не останусь. Я не собираюсь жить здесь больше. Я ухожу. Я не выхожу замуж за твоего папу, и я должна уйти.
Он уставился на нее. Она показалась ему вдруг очень далекой, очень крошечной, как бывает, если смотришь с другого конца в подзорную трубу.
Мальчик услышал, как громко говорит:
— Ты не можешь.
— Не могу…
— Ты не можешь уйти, — сказал Руфус еще громче. — Ты не можешь, я знаю тебя.
Она снова высморкалась.
— Да. И я знаю тебя.
— Куда ты идешь, — требовательно спросил мальчик. Отчего-то запершило в горле, его глаза зажмурились от сильной боли.
— О, просто в Лондон, — ответила Элизабет. Ее руки дрожали. — Я думаю купить дом с садом, а потом мой отец сможет приезжать и оставаться у меня на уик-энд.
— А я могу приезжать?
Слезы теперь текли по лицу Элизабет, просто бежали потоком.
— Я так не думаю…
— Почему нет?
— Потому что это не будет красиво по отношению к папе, даже к тебе…
— Будет! — закричал Руфус. Он с силой швырнул книжку в темный силуэт своего микроскопа. — Будет! Будет!
— Нет, — сказала Элизабет. Она шарила в своих карманах в поиске бумажных платков. — Нет, не будет. Это заставит тебя думать о том, что бы могло быть, когда на самом деле такого никогда не случиться. Теперь это ужасно, я знаю это, но, в конце концов, ты знаешь. Лучше знать обо всем.
— Нет, не лучше, — упрямо сказал Руфус. Он поднес свои кулаки к глазам, как делают маленькие дети. — Нет!
Мальчик прогнал ее с кровати. Он думал, Элизабет переменит отношение к нему, и не мог вынести этого — она уезжает в Лондон и даже не позволяет ему приезжать к себе.
— Уходи! — закричал он, вытирая глаза кулаками. — Уходи!
Руфус ждал, что она скажет: «Ну, ладно, все в порядке» или «До свиданья, Руфус». Но Элизабет не говорила ничего. Один миг она была там возле его кровати, а в следующий уже ушла. Он слышал, как ее тихая обувь быстро прошуршала по лестнице, а спустя несколько секунд хлопнула дверь. Так бывает, когда выходит Дейл.
Медленно и неуклюже Руфус убрал свои кулаки от глаз и лег в кровати на бок лицом к стене. Ему стало холодно, несмотря на то, что было лето. Мальчик чувствовал себя так, словно больше не мог двигаться. Стена была окрашена в кремовый цвет, она стояла такой целую вечность, всегда. На ней Руфус мог отчетливо различить, где он сделал царапины черным карандашом. Но мать стерла эти царапины моющим порошком. Она рассердилась на него просто за само царапанье, а в первую очередь за то, что он сделал глупые, ничего не значащие царапины, даже не обычные в таких случаях рисунки или слова.
Мысль о матери вызвала новый поток слез, которые закипали у него в горле, стекали по носу и щекам на подушку. И вместе ними пришло сильное желание, жуткое, неуемное желание вернуться обратно в свою комнату с Рори, в дом Мэтью.
Джози проехала весь путь до Бата, чтобы забрать Руфуса. Она предложила это сделать, словно Том был инвалидом, когда она услышала об уходе Элизабет.
— Я приеду, — сказала она. — Никакого беспокойства.
Он уступил ей, был благодарен. Джози приехала вместе с пасынком, неотесанным подростком, возможно, лет тринадцати, по отношению к которому Руфус вдруг проявил очень бурную радость, словно был чрезвычайно счастлив видеть его, но не знал, как выразить это. Они вместе поднялись в комнату Руфуса, Рори держал Бейзила на руках.
— Он прекрасен, — сказал Рори, обращаясь к матери. — Правда? Почему бы нам не завести кота?
— Я полагаю, мы можем…
— Скоро, теперь…
— Может быть…
— Когда мы вернемся, — настаивал Рори. — Можно котенка?
— Двоих котят? — предложил Руфус.
— Да ну вас, — сказала Джози, качая головой, но смеясь. Том сделал ей кофе. Она была очень мила с ним, прониклась бывшему мужу симпатией, но в этом скрывалась определенная доля беспристрастности.
— Я не хочу, чтобы ты сочувствовала мне…
— Я не сочувствую, — ответила она, — но мне жаль, что все так произошло. Мне жаль — из-за Руфуса.
Том слегка вздрогнул от боли. Он не мог выразить, как это было ужасно, не мог поведать Джози, как Руфус с нетерпением ждал ее приезда, упаковав свою сумку сутки назад, укутал свой микроскоп в несколько слоев упаковочной обертки с пузырьками. И Джози не спрашивала его больше ни о чем. Он не знал, проявляет ли она такт или уже обо всем догадалась сама, отчего ей едва нужно было что-то спрашивать. Джози оглядела кухню, но лишь бегло, а не со страстным желанием отметить любое изменение, любое доказательство присутствия другого человека. Бывшая жена была приятна, но немного сдержанна, и только в конце, когда она села в машину, а мальчики и все вещи Руфуса были уложены, Джози сказала, словно переживала за Тома:
— Не давай ввести себя в заблуждение. Не все так плохо, как выглядит, — и поцеловала его в щеку.
Том снова пришел на кухню после того, как машина уехала, и посмотрел на чашки и пустые бутылки из-под кока-колы, которые оставили мальчики. Руфус сказал поспешно «до свиданья» — с любовью, но поспешно, словно этот момент требовал попрощаться как можно быстрее без эмоций из-за всех несчастливых и неприятных предыдущих событий. Сын почти не говорил о непродолжительном визите Элизабет. На самом деле, он дал отпор пробным попыткам Тома узнать о его чувствах по этому поводу, оставив отца с небольшим, но отчетливым впечатлением: сын считает его частично ответственным за уход Элизабет, но уклоняется от открытого обвинения. Просто он не упоминал о ней.
Том сидел за столом. Дейл поставила на его середину вазу с васильками и несколькими желтыми маргаритками с глянцевыми лепестками. Она же оставила лилии в гостиной и маки — на комоде в комнате Тома. Он не был уверен, что здесь прежде стояли цветы в спальне. Они создавали для него некоторое неудобство. Или виной тому было вмешательство Дейл, которая поставила их там, вызвав тем самым дискомфорт.
Цветы были великолепны — розовые и алые с крепкими черными тычинками. Утешительно видеть, как они уже роняют свои тонкие лепестки. Возможно, Дейл после внезапного прилива радостной, вновь приобретенной уверенности не станет испытывать необходимость поменять их, желание снова уделять внимание отцу. Возможно, дочь снова успокоится — настолько, что вновь рискнет построить отношения с мужчиной. И на этот раз она будет желанной тем, кто сумеет управлять ею, ловко избавить Дейл от детских страхов и пробудить интерес к будущему.
«До тех пор, — сказал он Элизабет, — я несу ответственность. Я должен нести ответственность».
Она ничего не сказала, просто бросила на него один из своих быстрых взглядов, но не произнесла ни звука. Она не испытывала — вот что причиняло ей боль — симпатии к его постоянному чувству вины перед Дейл, к его убежденности: ответственность за дочь лежит только на нем, так как он — ее отец, что Том не вправе, как бы несправедливо это ни было, спихнуть ответственность на кого-то еще.
Он встал, вздохнув. Бейзил развалился там, где его оставил Рори — на подоконнике. Он лишь слегка повернул голову, чтобы видеть, если Том соберется готовить и уронит что-нибудь случайно.
Том медленно прошел по комнате, мимо дивана и стульев, где один за другим сидели его дети, где Джози скидывала свои туфли, где Элизабет читала газету, согнувшись над ней с кружкой в руках и очками на носу. Дверь в сад была открыта, а на верхней ступеньке железной лестницы стоял глиняный горшок, засаженный Элизабет стелющейся геранью, розовой и белой.