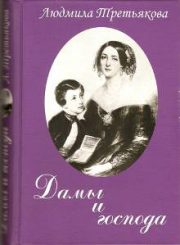«Однажды она (Загряжская. — Л.Т.) сказала великому князю Михаилу Павловичу:
— Не хочу умереть скоропостижно. Придешь на небо, как угорелая и впопыхах, а мне нужно сделать Господу Богу три вопроса: кто были Лжедмитрии, кто — Железная Маска и шевалье д'Еон — мужчина или женщина?
Великий князь спросил:
— Так вы уверены, что будете в небе?
Старуха обиделась и с резкостью ответила:
— А вы думаете, я родилась, чтобы маяться в чистилище?»
Кстати, надо отметить, что тайны тех исторических личностей, которые так занимали воображение Натальи Кирилловны, до сих пор не раскрыты. Кто тот узник Бастилии времен Людовика XIV, с лица которого никогда не снимали железную маску? Какова была истинная роль дипломата-авантюриста шевалье д'Еон де Бомона, который, переодетый девушкой, был послан Людовиком XV ко двору императрицы Елизаветы Петровны? Да и с Лжедмитриями в исторической науке нет полной ясности.
…Превозмогая старческие недуги, Загряжская до последнего предпринимала весьма долгие прогулки по Петербургу. Боясь городских сквозняков и холодного невского ветра, она, перед тем как выйти на улицу, нагружала старого лакея, свидетеля чуть ли не всей ее жизни, целой охапкой мантилий, шалей и шейных платочков. «Смотря по температуре улицы, по переходу солнечной стороны на тенистую, по ощущению холода или тепла, она надевала и скидывала то одно, то другое». Во время одной из таких прогулок произошла перепалка между ней и ее спутником, о которой, смеясь, она неоднократно рассказывала.
Старческие руки лакея были, видимо, не слишком ловки. И как-то, раздосадованная его замешательством, Наталья Кирилловна сказала:
— Да подавай же скорее! Как надоел ты мне.
И услышала в ответ:
— А если бы вы знали, матушка, как вы-то мне надоели!..
IV
Уснуть и не проснуться
Эта история произошла в Крыму перед самым крушением того мира, к которому принадлежали все действующие здесь лица: Нарышкины, Воронцовы-Дашковы, Долгоруковы, Шереметевы.
Очень скоро судьба людей с подобными фамилиями резко изменится: одни попадут в тюрьмы, лагеря, будут расстреляны, другие спасутся на последних кораблях, покидавших ялтинский порт.
Позднее в своих мемуарах, написанных на чужбине, они будут вспоминать, как, молчаливой толпой сгрудившись на палубе, долго, до рези в глазах, смотрели на исчезающую за кормой кромку родных берегов. Лишь единицам доведется увидеть их снова.
В 1987 году, словно боясь умереть, не исполнив давней мечты — увидеть Крым, где прошло детство, где было пережито первое горе, сюда в качестве туристки приехала из Франции Мария Илларионовна Воронцова-Дашкова. Годы давали себя знать. Надо было собрать все силы, чтобы одолеть путь от Парижа до маленького мисхорского кладбища, где сегодня всего несколько могил.
Время пошло вспять. Вспомнилось все до малейших подробностей. Люди, которых оказалось слишком много, чтобы разместиться на каменистом, нависшем сверху над дорогой выступе, где была вырыта могила. Груда белесой земли вперемешку с мелким камнем, которая мешала ей, четырнадцатилетней девочке, подойти к гробу матери. Светило весеннее солнце. И она не понимала, что же случилось и за что на них свалилось это горе.
Весной 1917 года в своем имении Мисхор покончила жизнь самоубийством молодая красивая женщина Ирина Васильевна Нарышкина.
Это ее девичья фамилия. По первому мужу она была Воронцова-Дашкова, по второму — Долгорукова.
Каждому, хоть немного знакомому с историей России, эти фамилии известны. Их носили подлинные русские аристократы! Те, кто многими веками служили престолу и были связаны с ним неразрывными узами.
Воронцовы-Дашковы и Долгоруковы являлись княжескими родами. О Нарышкиных же говорили, что государи не раз предлагали им титул, но они отказывались: «Достаточно того, что от нас Петр Великий произошел».
Между тем об ужасном происшествии писали мало и весьма осторожно. Слишком высокопоставленные семейства оказались к нему причастны. Мисхор же старался сохранить свою тайну. Слово «самоубийство» в газетах не употреблялось.
Но так или иначе, родственникам Ирины, пораженным этим неожиданным, страшным концом, надо было как-то объяснить случившееся. И Мисхор назвал причину смерти молодой женщины: воспаление легких. Верил ли хоть кто-нибудь этому? В сущности, это было уже не важно.
А скоро историю с гибелью обитательницы прекрасного мисхорского особняка заслонили иные события — грянул октябрьский переворот. Российское дворянство, побросав дома в столицах, хлынуло в свои южные владения. Однако скоро им пришлось убедиться, как ненадежны эти убежища.
О своей жизни в Крыму, о зверствах, творившихся там после переворота, о том, что человеческая жизнь не стоила и полушки, спустя десятилетия очевидцы этих событий, став эмигрантами, писали очень подробно.
Среди них были и те, кто хорошо знал Ирину, ее семью и часто гостил в Мисхоре. Тем не менее, подробно описывая жизнь в до и послереволюционном Крыму, они почему-то обходили стороной или крайне скупо упоминали мисхорскую трагедию и уж конечно даже предположительно не касались ее причин.
Правда, в недавно опубликованных дневниках императрицы Марии Федоровны, матери Николая II, можно найти записи, касающиеся этой смерти. Но они, хотя и интересные сами по себе, ни в малейшей степени не проливают свет на предысторию трагедии. Видимо, Марии Федоровне было известно не более, чем и всем.
А ведь невозможно представить, чтобы, утешая убитых горем родственников и провожая усопшую в последний путь, императрица, привыкшая вникать во все нюансы жизни близких ей людей — а обитатели Мисхора относились именно к таковым, — осталась равнодушной к причине этой трагедии. Скорее всего, стараясь что-то разузнать, она потерпела фиаско — именно поэтому нечего было и записать в дневнике. Почему ближайшие родственники Ирины, даже в отчаянии, которое часто делает людей очень откровенными, предпочли молчать? Или все происшедшее и для них оказалось полнейшей неожиданностью?
Похоже, что несчастная женщина была единственной хранительницей в полном смысле слова убийственной для нее тайны и весь последний отрезок своей короткой жизни одна несла эту непомерную тяжесть, надорвавшую ее. Кому излить душу? В чем искать утешения, когда знаешь: слова бесполезны, и нет такой силы в мире, которая может что-либо исправить.
Видимо, Ирина медленно, но верно шла к мысли, что выхода нет. Никто не поможет. Следовало все решать самой и только самой. Так она и поступила.
Даже при самых скудных сведениях о том, что предшествовало трагедии, невозможно отрешиться от мысли, что поводом к ужасному решению стала какая-то любовная травма. Причем из ряда тех, которые, выражаясь языком медиков, несовместима с жизнью.
Здесь случилось что-то совершенно непереносимое для женской души, перехлестнувшее тот предел, когда небытие страшит меньше, чем жизнь. Что же?
…Знаменитый мисхорский дворец, где умерла Ирина, в годы советской власти совершенно внутри переделанный и приспособленный для санаторных нужд, сохранил свой внешний вид.
Красная черепичная крыша и сегодня придает ему нарядный вид. Буйно цветущая по весне глициния прикрывает его неухоженность. А парк! Тот самый кусочек рая на земле, куда людской скорби, кажется, ход был заказан.
Вот в такую пору и умерла Ирина. Уму непостижимо, как могли соединиться торжество весеннего возрождения, когда все обласкано солнцем, небеса по-особому ярки, а морская гладь ласкова, с тьмой, холодом и немотой, куда она ушла добровольно и безвозвратно.
Ирина родилась в 1879 году. Ее юные годы прошли в благополучии, довольстве, в тесном общении с родными и друзьями. Барышни и кавалеры, кузины и кузены, сверстницы и сверстники — вся эта молодая поросль петербургского дворянства встречалась на новомодных катках, устраивала домашние спектакли, читала стихи, волновалась, мечтала и, как водится, влюблялась.
Мать Ирины была грузинского происхождения. И во внешности ее дочери было заметно присутствие южной крови. Лицо с тонкими чертами казалось даже суровым, если бы не припухлый мягкий рот. Кожу вокруг глаз словно кто-то подкрасил темной краской, оттого они выглядели еще более огромными, «театральными».