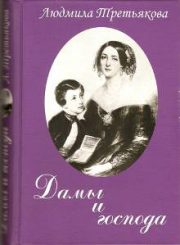А между тем до гибели Ирины оставалось немногим более двух лет.
Как она прожила их? Когда, с какого момента начался тот надлом, который привел ее к мысли уйти из жизни? Ясно одно — это было сделано не в состоянии аффекта, не в приступе жестокой душевной боли. Медленно и неотвратимо шла Ирина к своему концу. В письме великому князю Николаю Михайловичу, с которым она была дружна и который был крестным отцом ее Маши, есть строки, помеченные 3 февраля 1917 года: «В моей душе царит угнетение, от которого не могу отделаться все последнее время…»
Чем он мог ей помочь, что посоветовать? Как и Ирина, Николай Михайлович мог считать себя жертвой возвышенно-романтического отношения к сердечным делам. Пережив в молодости любовную драму, великий князь так и не женился. Однолюб, он предпочел одиночество. До своего страшного конца в Петропавловской крепости, когда его, державшего на руках любимого котенка, комиссары вывели на расстрел, он занимался русской стариной и оставил после себя ряд великолепных, ставших хрестоматийными трудов. Этим заполнялись его дни и годы. При всей его увлеченности, то угнетение, отсутствие душевного спокойствия, о котором писала Ирина, было ему знакомо не понаслышке.
Наверняка князь догадывался о причине внутренней тревоги Ирины и прямо связывал ее с Долгоруковым — ведь в узком мужском кругу, к которому принадлежали и он, и Иринин муж, все было известно друг о друге. Но бывают ситуации, когда советы бесполезны. Великий князь, желая душевно поддержать Ирину, послал ей и Маше по крестику…
Между тем, ни о каком явном конфликте в семье Долгоруковых речи, казалось, не шло. Со стороны никто не мог заметить напряженности между супругами.
В мае 1917 года двор переехал в Ливадию. Долгоруков исполнял свои обязанности при Николае II и бывал в ливадийском дворце почти ежедневно.
Нередко приезжал он сюда всем семейством. Дети Ирины пополняли компанию детей Николая II. У взрослых шла та же, что и в Петербурге, только в уменьшенном масштабе, светская жизнь: концерты приглашенных знаменитостей, любительские спектакли, танцы, благотворительные базары.
Вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая жила здесь же, в старом, памятном еще по мужу Александру III дворце, всякий раз выказывала Ирине особую симпатию и нередко приглашала ее на чаепитие в кругу своих дочерей, великих княгинь Ксении и Ольги.
16 мая в Мисхоре состоялось домашнее торжество: Ирине исполнилось тридцать восемь лет. По этому поводу императрица записала: «Ненадолго выходила в сад… набрала чудесных роз для Ирины, у которой сегодня день рождения. Передала букет Долгорукому…»
В своих мемуарах князь Петр Сергеевич Урусов упомянул о том впечатлении, которое произвело на него, тогда четырнадцатилетнего подростка, появление прелестной гостьи, как оказалось, буквально накануне ее гибели.
«К моей маме из Мисхора приехала с визитом княгиня Ирина Долгорукая, в первом замужестве графиня Воронцова, женщина большого очарования. Она казалась счастливой и довольной результатами экзаменов одного из своих сыновей. Была запланирована наша встреча с ее старшими детьми, Романом и Марией, которые были приблизительно нашего возраста… Мы были потрясены, когда узнали, что ровно через неделю после этого посещения княгиня умерла во сне. Она была в расцвете сил…»
То, что Ирина Васильевна обладала необыкновенной привлекательностью, которая действовала даже на детей, доказывают впечатления еще одного юного существа — княжны Сони Долгоруковой.
Девочка-подросток считала, что «тетя Ирина — одна из самых необычайно красивых женщин, очень нежная и женственная».
…Известие о несчастье у Долгоруковых мигом разлетелось по усадьбам и дворцам Крыма. Поначалу, однако, никто не думал, что дело примет трагический оборот.
«Ирина Долгорукая, по-видимому, заболела, — записала императрица 24 мая, — поскольку ее не удалось добудиться, несмотря на все попытки… Она приняла слишком много снотворных пилюль — странная, жуткая история».
Очевидно, в то время Ирина постоянно прибегала к снотворному — вероналу. В доме об этом знали, оттого первые часы не было никакой паники.
Невозможно не задаться вопросом: отчего у благополучной и, как все вокруг полагали, счастливой женщины появился на туалетном столике веронал? Какие думы и страхи, имеющие обыкновение одолевать на ночь глядя, не давали Ирине уснуть? Едва ли такое лекарство покупают впрок: на него надеются, как на возможность хотя бы ненадолго защититься от душевной боли.
Наверное, какое-то время веронал избавлял Ирину от «угнетения», про которое она писала великому князю. Но с наступлением утра ей приходилось возвращаться в ту самую жизнь, что сделалась нестерпимой. И никакого выхода уже не было: веронал, принятый на ночь, должен был помочь уснуть навсегда.
…Прошли сутки с момента первой тревоги из Мисхора. Записи императрицы таковы: «Плохие новости о бедняжке И.Д. (Ирины Долгоруковой. — Л.Т.), она все в том же состоянии, никак не очнется… врачи ничего не могут понять».
Действительно, лежавшая в постели женщина дышала ровно и спокойно. Казалось, что вот-вот она проснется.
Близкие были настолько обнадежены этим, что при всей тревоге в доме продолжалась похожая на прежнюю жизнь. Дети под присмотром бонны резвились на пляже, а когда императрица заехала в Мисхор узнать, как дела, то, по ее словам, «Сережа (Долгоруков. — Л.Т.) пригласил нас пройти в дом, где нам предложили чай».
Приближение катастрофы, пожалуй, чувствовала только вызванная телеграммой мать Ирины — императрица заметила, что та постарела буквально на глазах.
Второй день зловещего сна как будто принес надежду: лицо спящей порозовело, на щеках заиграл румянец. Кто- то сказал: «Посмотрите, она просыпается». Однако врачи молчали и оставались хмурыми. Температура у несчастной поднялась к вечеру до сорока. Консилиум медиков высказал предположение, что началось воспаление легких — в скором времени это даст возможность родственникам Ирины назвать официальную причину ее смерти.
Истекли еще два дня, когда теплилась надежда, что «спящая красавица» очнется от долгого сна. Но несчастье уже стояло на пороге мисхорского дворца и только ждало минуты, чтобы заявить о себе.
На четвертый день Ирина скончалась. Поставив дату очередной записи — 28 мая 1917 года, — императрица вывела непривычным, угловатым почерком:
«Какая трагическая и жуткая история: красивая молодая женщина и бедные дети, которые все останутся теперь одни!..»
Через час после известия о смерти Ирины императрица находилась в Мисхоре, в спальне покойной, где собрались знакомые, родственники, среди них были две свекрови и первый муж, приехавший с Кавказа. Печальная картина предстала перед ее глазами:
«Ирина, красивая и умиротворенная, лежала на постели, которая была чудесно убрана цветами ее несчастными детьми. Грустно! Она, такая молодая, в расцвете своего счастья, внезапно покинула навсегда мужа, детей, мать и всех, кто ее любил. Я не могу обвинять ее, но какая это трагедия для семьи покойной!»
Вынос гроба и панихиду в церкви маленького крымского селения Кореиз императрица назвала «душераздирающими»: «Для утешения несчастных детей в их неописуемом горе в связи с потерей такой замечательной и несравненной мамы священник произнес несколько красивых и трогательных слов. Затем мы все пешком проследовали за катафалком по узким кореизским улочкам».
И в печальном шествии была своеобразная красота, глубоко трогавшая сердца провожавших Ирину в последний путь.
Одна из свидетельниц вспоминала: «Моя первая встреча со смертью, когда меня привезли попрощаться и поцеловать руку умершей… По русскому обычаю гроб несли открытым до самой могилы, а она лежала, покрытая белыми розами.
Дорога от дома до кладбища была усеяна розами, даже на деревьях — от дерева к дереву, — как гирлянды, висели розы. Пение хора, пение священника, аромат роз, смешанный с ладаном, яркая голубизна неба и темное отражение моря, которое, казалось, было у наших ног в то время, как мы стояли у могилы, — все осталось в памяти ярко…»
Когда стали опускать гроб в могилу, «раздался сильный раскат грома, начался ужасный ливень…»
Дневниковые записи Марии Федоровны не только позволяют восстановить последние страницы незадавшейся женской судьбы. Весьма примечательно замечание, которому сама хозяйка дневника едва ли придала значение. Ясно, что место последнего упокоения для Ирины Васильевны отвели вне кладбища. А ведь известно, что именно так хоронили самоубийц. Отсюда напрашивается вывод, что духовенство, да и врачи тоже, не подвергали сомнению то, что Ирина ушла из жизни добровольно. Если учитывать воззрения верующего человека, которым, безусловно, она была, это накладывает на ее жизнь и гибель особенно трагическую печать.