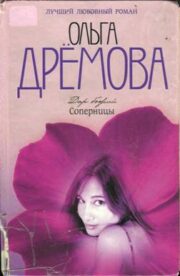— Лёвушка, — рвущимся от волнения голосом спросила Вера, — что говорят врачи, есть ли у него хотя бы какой-нибудь, пусть слабый, но шанс выжить? — Она подняла красные от слёз, воспалённые глаза на Вороновского.
— Пока человек жив, у него есть шанс, а дальше — как Бог положит, — с трудом смог проговорить он. — Будем надеяться и молиться за него, больше нам ничего не остаётся.
…Вера вошла в зал реанимации, а Лев остался за дверью. Бессильно опустив руки, он сел на стул и низко склонил голову. Пытаясь вселить надежду в Веру, как-то поддержать её, он уже твёрдо знал, что у Натаныча не только нет ни единого шанса, но и может случиться так, что времени встретиться в последний раз со своим лучшим другом у него не хватит. Врачи отделения, узнав, что Вороновский в какой-то степени их коллега, ничего скрывать от него не стали.
Положение было действительно очень тяжёлым, они сделали всё, на что была способна медицина, использовали самые крайние средства и малейшие шансы, но, видимо, этого было уже недостаточно. Удивительным для всех них было то, с каким мужеством боролся за свои последние часы этот старик. Он ждал из последних сил Веру и Льва, он просто не мог уйти, не сказав им самого важного. Он держался, заставляя себя прожить хотя бы ещё несколько минут, но сил для борьбы у него оставалось всё меньше и меньше.
Лев сидел в коридоре, выкрашенном в светло-салатовый цвет, хрустел от напряжения костяшками пальцев, а в голове звучали гулкие пустые удары, отдававшиеся физической болью во всём теле. По горлу прокатывались спазмы, обжигающей волной захватывающие гортань и уходящие куда-то глубоко внутрь.
Белые потолки, халаты докторов, двери и оконные проёмы слегка пахли новой краской, вместе с этим стоял нестерпимый дух нашатыря и ещё каких-то лекарств, смешавшихся в один стойкий больничный запах. Мёртвую тишину нарушали редкие шаги сестёр, грохотом раскатывающиеся по светлым каменным плитам реанимации. Тишина давила на уши, кричала, разрезая студенистую неподвижность гудением продольных электрических ламп в коридорах под потолком. Безликие белые двери накрепко спрятали за своими запорами людское страдание и горе.
Время тянулось бесконечно, не нарушаемое ничем. Лев по-прежнему сидел на стуле у стены, ожидая появления Веры, но когда она показалась из-за дверей, то сердце его невольно сжалось от сострадания и боли. Она выглядела маленькой старушкой, согнутой и убитой беспредельным горем. В её лице не было ничего живого, вместо него была застывшая маска отчаяния и безнадёжности.
— Он ещё жив, он ждёт тебя, Лёвушка, ступай, — прошептала она одними губами и почти упала на скамейку рядом с ним. Лев протянул руку, чтобы помочь ей, но она отвела её и умоляюще повторила: — Не медли, ступай, он ждёт только тебя.
Когда Лев появился в палате у Натаныча, он не сразу его узнал. Тёмное осунувшееся лицо с заострившимися скулами, серо-жёлтые синяки под глазами, близко проступившая сетка сосудов и выражение полного торжественного спокойствия. Лев остановился, не дойдя до кровати больного несколько шагов. Веки Натаныча дрогнули, и глаза открылись.
— Подойди ближе, Лёвушка, — запёкшимися губами прошептал он, — иначе ты ничего не услышишь, и получится, что я зря тебя столько времени ждал.
Лев шагнул вперёд, сел на прикроватный стул и взял Латунского за руку.
— Старый лис! Что это ты надумал? — спокойно проговорил он, тщетно стараясь скрыть боль в голосе. — Мы за тебя перепугались. Давай теперь выбирайся скорее, мы тебе будем помогать.
— Не трать времени попусту, Лёвушка, у меня его и так в обрез. Я сам врач и всё понимаю не хуже твоего. Я боюсь не успеть, поэтому не перебивай меня, пожалуйста… Я позвал тебя по очень важному для меня делу. Прости, мне так будет удобнее, — сказал он, снова закрывая глаза и пытаясь таким образом сэкономить остаток сил. — То, о чём я тебе хочу рассказать, не известно никому, ни одному живому человеку на свете, — продолжал он с закрытыми глазами, еле шевеля слипшимися пересохшими губами, — мы с Верунчиком прожили больше пятидесяти лет, с одной стороны — это огромная цифра, с другой — словно один миг. Не успеешь обернуться, а уж и нет его, словно и не было никогда.
Натаныч на короткое мгновение замолчал, переводя дух, а потом, словно боясь не успеть рассказать всего, судорожно вздохнул и через силу продолжал, чувствуя, что времени остаётся всё меньше:
— Все эти годы я любил её беззаветно, ты знаешь сам, но есть у меня на душе грех, который ничто не властно искупить, даже моя никчёмная смерть. Не суди меня, Лёвушка, строго, строже, чем я, меня всё равно никто осудить не сможет. Существует ещё один человек, близкий мне и дорогой.
Лев удивлённо вскинул брови, а Натаныч, словно почувствовав это, дрогнул уголками губ, будто в усмешке.
— Не удивляйся, Лёвушка, тому, что я не был тем кристальным образцом, за который вы все меня принимали, и не суди строго, жизнь — она длинная. Не мог я сказать об этом Верунчику, когда мы были счастливы, не имел права, а теперь и подавно не нужно этого делать. Познакомился я с ней давно, когда в семидесятые летал на конгресс в Канаду. Мне сейчас семьдесят три, а тогда-то я был орлом. Не знаю, как вышло, но, видно, она меня крепко полюбила, потому что родила от меня дочь, не прося ничего взамен, довольствуясь только нашими редкими встречами.
— Юра, а она знала о твоей московской семье?
— Знала, но это не имело для неё значения. Виделись мы с ней нечасто, созванивались и того реже, она боялась разрушить моё счастье, и это необыкновенное чувство чистой любви она пронесла через всю свою жизнь.
— Она никогда не была в России?
— Никогда, — тихо прошептал Натаныч, чувствуя, что теряет последние силы. — У её дочери уже свой ребёнок, моя внучка, ровесница твоим мальчикам. Это всё так сложно, так завязано жизнью в один гордиев узел, что расплести теперь под силу только тебе, Лёвушка. Когда меня не станет, ты поезжай ко мне домой. Там, в нижнем ящике стола, есть второе дно, где лежит зелёная папка. В ней хранится всё, что связано с Еленой, Кристиной и маленькой Джейн.
Латунский попытался сделать глубокий вдох, но у него это не получилось, он часто и мелко задышал, стараясь справиться с наступившим приступом удушья, а потом заговорил очень скоро, глотая окончания слов и торопясь закончить.
— Возьми эту папку, Лёвушка, и сохрани её у себя, не посвящая в мою тайну никого, даже милую Маришку. Я не хочу, чтобы Вера даже случайно узнала об этом, я не хочу причинить ей незаслуженную боль. Когда ты окажешься в Канаде, отдай эту папку Кристине, там есть вещи, очень дорогие для неё. Скажи, что я благодарен ей за её любовь и за счастье быть дедом, хотя я видел мою маленькую Джейн только однажды, но я держал её на руках и был счастлив…
— Я всё сделаю так, как ты просишь, — произнёс Лев, с болью глядя в изменяющееся на глазах лицо друга. — Не беспокойся, никто от меня ничего не узнает.
— Спасибо, Лёвушка, это не давало мне покоя. Если можешь, не думай обо мне плохо, всю свою жизнь я любил только Веру, но, как видно, в мире всё устроено намного хитрее и сложнее, и мне не под силу оказалось с этим справиться.
— Успокойся, Юра, я не осуждаю тебя, жизнь действительно штука непредсказуемая.
— Передай привет Маришке и мальчишкам, вы мне все как родные. Скажи пострелятам, что дядя Юра помнит про них и смотрит на вас всех сверху…
Натаныч замолчал, дыхание его стало чуть слышным и спокойным, лицо приобрело уверенность, на нём проступило выражение того, что все земные дела завершены и все долги розданы. Он в последний раз открыл глаза, взглянул на Льва, слабо улыбнулся и одними кончиками пальцев пожал руку друга. Потом дыхание прекратилось совсем.
Натаныч лежал с широко открытыми глазами, а часы отбивали первый час последнего дня года.
Меньше чем через час Вороновский и Вера уже шли по ночному зимнему городу. Лев заботливо поддерживал Веру под локоть, говоря ей какие-то важные слова, пытаясь хоть чем-то облегчить боль потери. Она шла рядом, не произнося ни слова, только согласно кивая головой в такт их шагам.
За эти неполные три часа Москва изменилась неузнаваемо. Будто вспомнив, что на дворе последний день уходящего года, природа решила навести порядок в своих владениях. Откуда-то сверху, из тягучей сиреневой мути неба, стали падать крупные, похожие на гагачий пух, мягкие перистые хлопья. Они кружились в причудливом отсвете жёлтых и синих фонарей, исполняя удивительные вальсирующие па, а потом выстилались на земле затейливыми кружевными узорами. Часть из них тут же таяла, соприкоснувшись с влажным теплом асфальтированных дорог. Тротуары ловили снежинки, слизывая их шершавыми языками, пока не насытились окончательно, а сверху падали всё новые и новые, накрывая землю праздничной накрахмаленной скатертью.