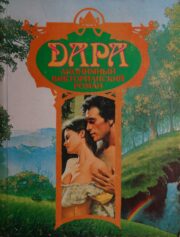Когда я пришла в себя, мои пальцы все еще сжимали перила. Скрючившись от тошноты и жуткой головной боли, я кое-как, на четвереньках доползла до постели и, не обращая внимания ни на запах, ни на бушевавшую снаружи бурю, провалилась в глубокий сон.
Наутро ветер истощил свои силы. Хотя нас еще изрядно трепало, по сравнению с ночной бурей это была лишь легкая рябь. А к восьми часам, когда Роберт пришел меня будить, море уже почти совсем стихло. Увидев у меня на лбу ссадину, он взволнованно спросил, что случилось. Я в двух словах рассказала ему о своем ночном приключении и попросила, чтобы он до полудня дал мне поспать, — голова еще очень болела. Как только он ушел, я тут же рухнула на кровать и с облегчением погрузилась в дремоту.
В полдень, когда он вернулся, я уже встала и оделась; хотя слабость еще ощущалась, сон все же очень меня освежил. Роберт успел хорошенько обдумать все, что я ему рассказала утром, и сообщил мне о своих подозрениях. По его мнению, мужчина, который угрожал мне, сказав, что я «сгину под водой», в эту ночь, когда я стояла, ухватившись за борт, попытался осуществить свою угрозу. Без сомнения, он преуспел бы в этом, если бы не порыв ветра, внезапно швырнувший судно на борт. Роберт считал, что, когда я обернулась лицом к борту, этот человек бросился ко мне, чтобы столкнуть меня в море, но то, что я упала на колени, спасло мне жизнь — он промахнулся и сам перелетел за борт, успев лишь ударить меня ботинком по голове.
В тот же день Роберт поговорил с капитаном и узнал, что один из матросов бесследно пропал — по всей вероятности, его унесло за борт волной. Роберту показалось, что капитан говорил о гибели этого человека без особого сожаления — репутация у этого матроса была хуже некуда. Весь экипаж его терпеть не мог за буйный нрав и постоянные стычки с другими моряками; кроме того, поговаривали, что он убил человека в потасовке в портовом переулке Ливерпуля. Один из матросов видел, как он промывал кровь из глубокой ножевой раны на руке на следующую ночь после отплытия из Ливерпуля. А поскольку капитану было известно, чем закончилась драка в порту, вывод напрашивался сам собой.
Я благодарила Господа за свое счастливое избавление и с нетерпением ожидала прибытия в Нью-Йорк, где я смогла бы наконец выкинуть из головы всю эту жуть.
Прошло три дня, и лоцман привел наше судно в Нью-Йоркский залив и дальше — в великолепный порт Нью-Йорка. Вдали виднелись «Большой Западный» и другие трансатлантические корабли, стоявшие у Сэнд Хука в ожидании своего отправления в очередное путешествие через океан. Солнце сверкало над сотнями деревянных домишек, из которых собственно и состоял тогда город, по крайней мере — Манхэттен; я с восторгом глазела на хлопоты и суету, связанные со швартовкой нашего корабля.
Первыми, кто нас встретил, когда мы сошли с корабля и ступили на землю Америки, которая многим из нас, эмигрантов, казалась настоящей землей обетованной, были таможенные служащие и чиновники иммиграционной службы. Впрочем, для нас с Робертом все эти вопросы и заполнение бумаг были простой формальностью, поскольку мы не считались «нежелательным элементом», нас встретили довольно тепло.
На пристани стояла целая толпа людей всех национальностей, встречающих своих новоприбывших родственников. Роберт обратил мое внимание на то, как легко определить, из какой части Европы родом эти люди: ирландцы были одеты в бриджи и высокие шляпы и держали в руках свои длинные «посохи» — дубины, без колебаний пускавшиеся в ход в драке; шведы — в своих пестрых разноцветных жилетках; немцы, в коротких сюртуках и национальных шляпах, курили коротенькие пенковые трубки.
Та часть Нью-Йорка, которую я успела увидеть, пока нас везли к пароходу «Дрю», который должен был доставить нас на сто пятьдесят миль выше по течению Гудзона, в Олбани, не произвела на меня большого впечатления. Улицы утопали в грязи, мостовых не было вовсе — лишь местами над лужами проступал дощатый настил. Повсюду валялся мусор. Переулки были по колено запружены грязной жижей, которую оставил после себя ночной ливень. Я ожидала, что передо мной предстанет чистый, молодой город, огромные, светлые дома… а вместо всего этого увидела лишь обветшалые деревянные домишки, развалившиеся лачуги и в довершение удручающей картины — кур, рывшихся в грудах отбросов, и свиней, копавшихся в помоях.
На пароходе нас ждали вполне удобные каюты и неплохой ресторан, где мы впервые отведали американской пищи. Изголодавшись по еде, — ведь я не ела с тех самых пор, как мы прибыли в порт, — я наскоро заглотила первое блюдо — тушеных устриц, а следом и все остальное: и цыпленка, и бараньи котлетки с картофелем, бобами и капустой, и под конец этого пира — гречишные оладьи в кленовом сиропе. Все вокруг тоже набивали едой полный рот и торопились так, будто каждая минута промедления могла стоить им жизни.
Пассажиры-мужчины выражались крепко и смачно, нередко вставляя в свою речь словечки вроде «Содом и Гоморра!» или «черт меня подери!». Многие из них после еды жевали табак и цвиркали на пол темно-коричневым соком. Мне еще предстояло узнать, что эта нечистоплотная привычка распространена в Америке повсюду, и даже полы, покрытые коврами, бывают запятнаны табачными плевками. И все же открытые и непринужденные манеры этих людей мне понравились и показались намного честнее того, к чему я привыкла в Англии.
С тем приятным, успокоительным чувством, которое всегда дает наполненный добротной пищей желудок, мы с Робертом вышли на палубу и стояли там, оперевшись на борт и любуясь прекрасным пейзажем, который со всех сторон окружал наш пароход, с плеском поднимавшийся вверх по Гудзону. Здесь Роберт и рассказал мне о том, как жил в Эдинбурге, где он был священником в пресвитерианской церкви. Рассказал он мне и о своей жене, умершей от холеры, Они прожили вместе двадцать шесть лет и ни разу в жизни, даже в запальчивости, не сказали друг другу сердитого слова.
Когда она умерла, он удалился от людей и, к немалому огорчению своих прихожан, пытавшихся вывести его из этого тягостного оцепенения, совершенно забросил приход. Каждая деталь обстановки его дома, каждый поворот эдинбургских улиц напоминали ему о его милой Шарлотте. Поэтому, когда его брат прислал из Америки письмо, в котором выражал соболезнования и приглашал его в Монпелье — занять освободившуюся вакансию в местной пресвитерианской церкви, — Роберт, не раздумывая, принял это приглашение, лишь бы уехать подальше из города, где все напоминало ему о жене, любовь к которой, с тех пор, как в двадцать лет он связал с ней свою судьбу, составляла смысл его жизни.
Он сказал мне и то, что наша дружба, развившаяся из его заступничества на «Британии», воскресила его после трех месяцев безысходного отчаяния и что теперь в его жизни появился новый интерес. К тому, что произошло после этого, я оказалась совершенно неподготовленной.
Он взял меня за обе руки и, глядя на наши сплетенные пальцы, сказал:
— Милая моя, вы, должно быть, даже не понимаете, как сильно я к вам привязался. Я постоянно о вас думаю, я уверен, что, несмотря на разницу в годах между нами, если бы вы согласились стать моей женой и помощницей в деле служения Господу, я был бы счастливейшим из людей.
Прошло не меньше минуты, прежде чем я смогла собраться с мыслями и осознать, что этот милый человек, снискавший мое уважение и восхищение, действительно предлагает мне выйти за него замуж.
— О Роберт, — вздохнула я, — если бы только я любила вас так, как девушка должна любить своего будущего мужа, я с великой радостью приняла бы ваше предложение. Но, по правде говоря, это не так. Вы мой милый, милый друг и учитель, и я очень к вам привязана… Я на секунду остановилась, пытаясь найти такие слова, чтобы мой отказ не слишком ранил его. — Вы заслуживаете много большего, чем я при всем моем старании могла бы вам дать. Я не могу представить себя женой священника, да, честно говоря, я вовсе не собираюсь становиться чьей бы то ни было женой. Замужество — не для меня и, боюсь, это навсегда. Прошу вас, Роберт, милый, не огорчайтесь. Своим предложением вы оказали мне большую честь, и если бы я решила выйти замуж, я, конечно, вышла бы только за вас.
Ничего больше не говоря, он только поцеловал меня в лоб и ушел к себе в каюту.
Все оставшееся время путешествия до Олбани, когда нам случалось быть вместе, ни он, ни я ни словом больше не упоминали о его предложении и возобновили наши прежние, дружеские отношения.