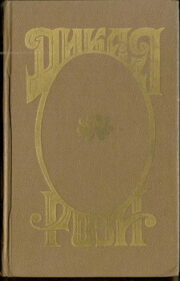Томаса отвернулась к окну. Помолчала.
— Эх, Розита, Розита… Самая твоя большая беда — что ты попала в руки такой бедной й неграмотной старухи, как я.
— Не смей так говорить, Манина! Ты — лучшее, что мне послал Господь.
Но Томаса продолжала говорить как о наболевшем:
— Кого я из тебя сделала? И впрямь — дикарка, как я сама. Надо было заставить тебя ходить в школу. Права Каридад!
— Манина, я прямо зверею, когда такое слышу!
— Я тебя погубила, держа все время при себе.
— Не надо, ну прошу тебя…
Но Томаса не могла отрешиться от грустных мыслей, посещавших ее в последнее время все чаще. Она чувствовала себя виноватой, что девочка всю жизнь провела возле нее, необразованной прачки, не сумевшей заставить Розиту даже как следует учиться в школе.
— Тебе лучше быть от меня подальше, — сказала Томаса, печально глядя на Розу.
— Да что ты такое говоришь?! Я лучше буду темной, грязной, как свинья, и пусть меня все будут презирать, только бы меня не разлучали с тобой. Никогда, Манина, поняла?
— Ох, доченька, несправедлива к тебе судьба.
— Это почему же?
— Потому что все у тебя могло быть. Все-превсе. А судьба у тебя даже родителей отняла.
Томаса ласково сняла с головы Розы шапочку, которую та носит даже дома, и стала нежно гладить по ее спутанным густым волосам.
— Отца у тебя отняла смерть. А мать — время да забытье… Роза обняла Томасу и не дала говорить ей дальше.
Старая Эдувигес слышала, может, уже и не очень хорошо. Но она так давно знала семью, в которой жила, что ей не нужно было слышать слов, чтобы понимать: мирная трапеза за столом ее любимицы Паулетты хоть и сопровождается улыбками и ласковыми словами всех троих ее участников, на самом деле полна напряжения. Отношения у Паулетты с мужем Роке и сыном Пабло непростые. Но они хорошо воспитаны и дорожат друг другом. Эдувигес жалела всех троих.
— Я собираюсь пойти позаниматься к друзьям, — сказал Пабло. — Ты не против, мама?
— Что ж… А ты, Роке?
— У меня вечер свободен, и я хочу провести его с тобой. Конечно, если у тебя нет других планов.
Паулетта улыбнулась.
— Ах, Роке!.. Да хоть бы и были.
Она отхлебнула кофе, приготовленный Эдувигес так, как любила ее хозяйка.
— Папа, ты же знаешь, мама почти не выходит из дома, — сказал Пабло.
— Поэтому я и остаюсь. Я не знаю другой такой домоседки, как твоя мама. Другие мужья были бы в восторге. Но не я. Я решительно протестую. Я хочу, чтобы ты, Паулетта, почаще бывала со мной на людях.
— Это упрек, Роке?
— Это шутка, Паулетта. Разве ты когда-нибудь давала мне хоть повод для упрека?.. Ты сопровождала меня по моей просьбе, даже когда тебе этого не хотелось.
Паулетта помолчала.
— Я знаю, я скучная жена… Но я стараюсь…
Роке протестующе поднял ладонь.
— Что бы ты ни делала, ты должна знать: я боготворю тебя… Конечно, мне бы хотелось, чтобы то выражение печали, которое не покидает твое лицо с момента нашей свадьбы, однажды исчезло… Иногда мне кажется, что ты где-то очень далеко от меня.
— Прости меня, Роке, мне очень жаль…
— Это ты прости меня. Но, конечно, мне хотелось бы знать причину этой печали.
— Причины нет. Просто я такая. Это мое свойство, от которого никто не может меня избавить.
Пабло, молча слушавший разговор родителей, встал.
— Покидаю вас, потому что опаздываю.
Он поцеловал в макушку мать, помахал рукой отцу и вышел из комнаты.
Паулетта продолжала привычно хозяйничать за столом: нарезать любимый мужем кекс, подливать горячий кофе в его чашку, очищать от кожуры яблоко его любимого сорта.
Их стол, как, впрочем, и весь дом являл собой образец хорошего вкуса. И старинная голубая с серебряной крышкой сахарница на хрустящей от свежести и белизны скатерти выглядела как бы символом этого годами устоявшегося быта.
Так, во всяком случае, казалось.
Роке тоже встал.
— Пойду переоденусь. Только немного отдохну… Не составишь мне компанию?
— Чуть позже, дорогой, — не сразу ответила Паулетта. Роке вышел, поцеловав жену, и в двери тотчас появилась
Эдувигес, с беспокойством смотревшая на Паулетту.
— Ах, девочка моя, — сказала она. — Так и будешь молчать? До каких же пор?
— Наверно, всю жизнь, кормилица. Раз уж мне сразу не хватило духа признаться Роке… Раз уж я струсила… Раз уж позволила, чтобы меня разлучили с Розитой…
— В футбол погоняем?
— А как же, Розита! Ура!
Мальчишки потянулись за Розой к пустырю.
— Слышь, Розита, говорят, ты Палильо отлупила.
— Было дело. — Роза весело рассмеялась. — Не прискакала бы его мамаша, мокрого места от него не осталось бы.
— Ух ты! Ну ты даешь!
— Я его вот так! — Роза ловко подставляет ножку идущему рядом мальчишке, опрокидывает его на землю и тут же помогает подняться. Мальчишка скорее польщен.
— А знаешь, Роза, что я видел?
— Что ты видел, дурачок?
— Видишь вон тот дом за пустырем, желтый такой?
— Ну?
— Забор видишь?
— Ну, вижу.
— За ним сад.
— Ну и что?
— А то, что там вот такие сливы! — Мальчик показывает Розе два сложенных вместе кулака.
Роза останавливается. И тотчас останавливаются ее друзья.
— Обчистим?
Ребята молчат недолго.
— Уж как я сливы люблю! — говорит один.
— Подбери слюни, Кот, — отвечают ему. — Там вон какая ограда!
— Ну и какие сложности? — спрашивает Роза. — В первый раз, что ли?
— То-то, что не в первый. В прошлый раз еле ноги унесли.
Роза презрительно сплевывает.
— Прямо зла на вас не хватает. Бабы какие-то!.. Сама, без вас, залезу. Тогда уж слив не просите.
Она решительно направляется к дому, крыша которого чуть виднеется из-за растрепанных крон кучки деревьев, приютившихся на краю пустыря, служившего ребятне «заброшенного города» футбольным полем.
— Я с тобой, Розита!
Это Кот. Он с такой же решительностью двигается за ней.
— А кто не с нами, тот старуха поганая!
Кто-то из ребят, изображая походку дряхлой старухи, направляется за двумя смельчаками.
— Что ты, Розита, мы здесь все — молодцы ребята, — шамкает он старческим голосом…
Подойдя к ограде, Роза командует:
— Нагибайся, Кот!
— Уж больно ты длинная.
— Я длинная, но легкая.
Роза забирается на спину Кота и, подпрыгнув, садится на ограду.
— Слышь, Роза, давай быстрей. У меня слюнки текут… Уж как я люблю сливы!
Роза, протянув руку, прямо с ограды, срывает с дерева крупную синюю сливу и ест ее.
— Во! Сама жрет, а мы тут дожидайся! — раздается снизу. Роза кидает мальчишкам сливу за сливой.
— Нате, ешьте, трусишки, что бы вы без меня делали! Сливы доставать все труднее. Роза тянется за ними с трудом.
— Сверзится она, — мрачно предполагает Кот.
Но Роза не падает. Она намеренно спрыгивает в сад, собираясь набрать слив в свою любимую шапочку.
Сестры и братья Линарес имели общего отца.
Матери у них были разные.
Родительница Кандиды и Дульсины умерла, когда братьев-близнецов Рикардо и Рохелио еще не было на свете.
В детстве сестры опекали малышей и привыкли, чтобы мальчики слушались их. Но мальчики росли, становились юношами, потом молодыми людьми. И в последнее время опека сестер довольно часто раздражала их, особенно Рикардо.
Он вообще был самостоятельнее и решительнее брата, на характер которого, довольно нелюдимый, безусловно повлияла тяжелая травма, полученная во время автомобильной аварии и приведшая Рохелио к инвалидной коляске и костылям.
Рикардо, наоборот, был олицетворением молодой силы и здоровья. Он был очень способным спортсменом и выступал за легкоатлетическую и волейбольную команды университетского клуба, а в последнее время увлекся еще и восточными единоборствами, целыми часами пропадая в гимнастическом зале университета, где проходили тренировки.
Довольно дружные в детстве, в последнее время сестры и братья стали заметно прохладнее друг к другу. Этому способствовала и финансовая зависимость братьев от сестер, главным образом от Дульсины, ведшей хозяйство.
Впрочем, в финансовых вопросах у семьи был надежный и опытный советник — лиценциат Федерико Роблес, старый знакомый семьи.
В мрачноватом кабинете своего дома, где вечерние лучи солнца отбрасывали легкий отблеск на дорогую кожу кресел и старое темное дерево рабочего стола, сестры Линарес разговаривали с адвокатом Федерико Роблесом.