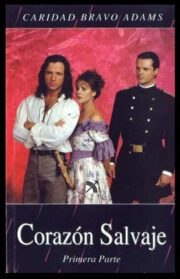Опираясь на руку сына, София Д`Отремон стояла у дверей, выходящих на галерею, глядела на высокомерную и неподвижную фигуру рядом с парадной лестницей. Словно отгоняя ужасную мысль, она тряхнула головой. Точно также, как и нотариус, она почувствовала, как мороз прошел по коже, ледяной пот проступил на висках, потому что ожидавший молодой человек, с высоко поднятой головой, был чрезвычайно похож на Франсиско Д`Отремон, который, нарушив все божественные и человеческие законы, дал ему жизнь. Как и он, изящный и крепкий, сильный и ловкий; у него были такие же широкие жесты, и презрительное выражение лица, он с таким же высокомерием поднимал голову. Только кожа была темнее, волосы более волнистые и черные; а большие итальянские глаза Джины Бертолоци являлись для Софии Д`Отремон невыносимым оскорблением.
– Мы не закончили из-за обморока Айме, – пробормотал Ренато. – Но ведь ты слышала мою просьбу, да, мама?
– Ренато, прошу тебя…
– К чему эта злоба, мама? – мягко упрекнул Ренато. – В конце концов, что плохого он нам сделал?
– Он вор! – защищалась София низким и злым голосом. – Все об этом говорят!
– Все ошибаются насчет него. Думаю, я понимаю его. Позволь мне попробовать, мама, дай мне эту возможность. Обещаю, что если он не будет соответствовать, то я повернусь к нему спиной.
– Простите, что прерываю, – извинился Хуан, приближаясь к Д`Отремон. – но я спешу вернуться в деревню. Я приехал, чтобы рассчитаться с Ренато, сеньора Д`Отремон, и избавлю вас от неудобства видеть меня. Вот то, что я должен…
– Что ты говоришь, Хуан?
– Возьми. То, что ты за меня заплатил, когда меня арестовали, что дал однорукому, чтобы тот забрал иск, и чего стоил арест Люцифера. А вот самый старый счет: платок с монетами, который ты дал мне, а я отнял его у тебя, когда мы были детьми. Две золотые монеты и двадцать шесть серебряных реалов. Я взял их, чтобы сбежать отсюда и не умереть с голоду, как собака у дверей твоего богатства, но все уже оплачено, все до последнего сентаво!
– Хуан, Хуан! – позвал Ренато, увидев, как Хуан удалился быстрым шагом.
Он побежал за Хуаном, чтобы остановить, и ухоженной рукой кабальеро схватил его за сильное плечо. Его облик был простодушен и благороден, так же, как высокомерен облик Хуана. В голубых глазах был свет понимания и сердечности, в то время как в черных и свирепых глазах Хуана Дьявола блестела вспышка резкой злобы, давней, идущей от предков ненависти, которой вскармливали все его несчастное детство, ужасное отрочество, суровую и мятежную юность.
– Хуан, почему ты так себя ведешь?
– А как я себя веду? Плачу долги? Это ведь не только преимущество людей благородных. Оставь меня, Ренато. Почему ты не оставишь меня?
– Потому что я такой же упрямый, как и ты, Хуан Дьявол, – сердечно утверждал Ренато. – Потому что у меня есть страстное желание стать твоим другом, хотя ты и всегда отвергал меня наихудшим образом.
– Чего ты хочешь? Я не кабальеро. Оставь меня, Ренато! Будет лучше, если ты меня оставишь.
– Пошли, хватит строить из себя отверженного. Даже ребенком тебе не удалось испугать меня своим шипением зверя, Хуан, я знаю, что ты добрый.
– Я добрый? – горько засмеялся Хуан.
– Смейся сколько хочешь, Хуан, я понимаю тебя, возможно, лучше всех на свете. Есть в тебе что-то, что меня привлекает, заставляет чувствовать тебя своим братом. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, потому, что ты пришел сюда за руку с моим отцом, которым я восхищался; может быть, и это почти тайна, потому, что несмотря на нашу короткую дружбу, ты был единственным моим другом в детстве.
– О чем ты говоришь?
– Понимаю, что тебя это удивляет. Странно, но так было. У меня не было в детстве друзей. Мать не разрешала иметь их. Ее огромная любовь окутала меня ласками и заботами. Я никогда не ходил в школу, учителя были для меня не более, чем слуги, лишь более уважаемые, служащие за плату, рассыпающиеся перед единственным учеником в похвалах и заискиваниях, ведь родители превосходно платили. Конечно, в Кампо Реаль было много детей и мальчиков, но им никогда не разрешалось приближаться ко мне, как и мне приближаться к ним. Ты был чем-то новым, другим. Кажется, я до сих пор вижу тебя. Когда тебя привели, мрачного, угрюмого, дикого, как лесного кота. Но было в тебе что-то сильное, свободное и пленительное, что заставило меня завидовать тебе. Да, завидовать, Хуан. Я считал себя счастливым, когда ты позволял мне идти за тобой по полям, пытаясь повторять твои подвиги, и я бы не колеблясь пошел за тобой, если бы ты не предпочел уйти один. Вижу, ты удивляешься.
– В действительности, ты казался мне королем, а я рядом с тобой был меньше, чем пес.
– Возможно, другие видели вещи так, но я – нет. Для меня ты был королем, а я никогда не знал суровых радостей твоего детства. Ты мало изменился, Хуан. Тогда ты смотрел на меня также, как сейчас, угрюмо и хмуро, но торопился помочь и защитить меня, если видел в малейшей опасности. Помнишь?
Хуан опустил голову. Его широкие кулаки, сильные, как булавы, сжались. Он словно опустился вглубь себя, спустился в самую бездну заветных чувств, в мир печали, злости и зависти, в которых барахтался, как потерянный. А голос Ренато звучал еще задушевней, по-братски, еще сердечней и искренней:
– Я хочу, чтобы ты остался рядом со мной, Хуан. Хочу, чтобы сменил одежду моряка на эту одежду, которая так тебе идет, использовал во благо свою храбрость и силу и был рядом со мной тем, о ком я мечтал: другом, сотрудником, братом, да, братом. Отец однажды сказал мне, и я не забыл его слово. Я назначаю тебя управляющим Кампо Реаль. У тебя будут деньги и власть, и ни перед кем тебе не нужно будет отчитываться.
– Управляющий Кампо Реаль? – в совершенном замешательстве Хуан поднял голову, ища правды в глубине тех голубых глаз, братских, верных ему, и почувствовал внезапные удары усиленно забившегося сердца. – Ты правда подумал об этом? Ты один решил? Донья София меня ненавидит.
– Не будем преувеличивать. Не могу отрицать, что ты никогда не был ей симпатичен. По правде, я думаю, что дело даже не в этом, ее материнская огромная любовь всегда видит меня маленьким и беззащитным. Не обижайся, Хуан. Моя бедная мать не понимает некоторых вещей. Это ее мир, но уверен, она поймет все, как только немного пообщается с тобой. Она слишком чувствительна и добра. Ты ее постепенно узнаешь.
– Не думаю, Ренато. Потому что, хотя я и благодарен всей душой за то, что ты только что сказал мне, я не готов к этому.
– Не давай отрицательный ответ так скоро. Подожди немного и подумай. Я внезапно сделал тебе предложение, чтобы попросить тебя остаться на несколько дней, которые тебя ни к чему не обязывают. В действительности, ты не должен, не зная, о чем идет речь, говорить да. Это работа суровая и тяжелая, я полностью хочу изменить внутренний режим Кампо Реаль, покончить со старыми методами и вырвать навсегда клыки старому лису Баутисте, помнишь его? Раньше он был у нас дворецким, потом главным управляющим. В настоящее время он презренный и нелепый тиран, против которого мы с Моникой начали наступление.
– Моника? – удивился Хуан.
– Да, Моника, моя свояченица, которая была после тебя единственной настоящей подругой детства и юности, музой-вдохновительницей всех моих пятнадцати лет.
– А почему ты не женился на ней?
– На Монике? – удивился Ренато. – Ну, на самом деле, не знаю, почему в конце концов не влюбился в нее. Она была чудесной и продолжает быть. Я ладил намного лучше с ней, чем с Айме, но таково сердце. Однажды оно переменило курс, и меня пленило это создание, которое полно грации и очарования. – Ренато улыбнулся своим мыслям, ослепший в своем мечтании, не посмотрев в лицо Хуана, в котором имя Айме все изменило, зажигая еле сдерживаемой неистовой яростью. – Полагаю, ты не знаешь ее в лицо. Сожалею о недомогании, которое помешало мне представить тебе ее, но это произойдет через некоторое время. Я так счастлив, Хуан, беспредельно счастлив. А когда человек счастлив, легко быть великодушным. Я хочу, чтобы это счастье дошло до самого дальнего угла моей усадьбы, чтобы самые униженные благословляли имя Айме, думая, что их благополучие пришло с ее появлением, потому что ее любовь помогла сделать меня более человечным и добрым. Тебя это удивляет?
Теперь он смотрел на Хуана и был удивлен ужасным выражением на его лице. На смуглом, побледневшем лице, горели два огненных яростных черных глаза, губы сжались, и с них чудом не слетел его тайна.