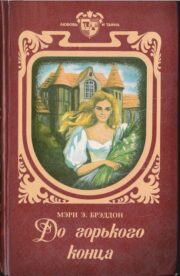Грация покраснела до ушей, пока шел этот разговор. Она досадовала на тетку за то, что та заговорила о ней, досадовала на жильца, за его высокомерный тон, такой тон, как будто она была уж так много ниже его.
Приезжий, со своей стороны, представлял себе дочь фермера толстою, краснощекою девушкой, с веснушками и одетую карикатурой лондонских мод.
— Она, вероятно, играет на фортепиано, ваша племянница? — спросил он, отказавшись от малинового торта и сливок, которыми угощала его мистрис Джемс.
Он с ужасом воображал, какие мучения придется ему вытерпеть от музыки сельской барышни. «Почему наши законодатели не дадут женщинам мужские права? — спросил он себя. — Тогда брайервудская племянница ходила бы за сохой или надсматривала бы за косцами».
— Да, сэр, она играет на фортепиано, — отвечала мистрис Джемс, резкий дискант которой звучал еще резче после плавного тона приезжего. — Ричард научил ее всем подобным пустякам. У нее есть способности к музыке, насколько я в этом судья. Но если ее игра будет мешать вам, мистер Вальгри, — тетушка Ганна иначе не называла жильца, как этим искаженным именем, — скажите только слово, и фортепиано не будет открываться, пока вы у нас.
— Ни за какие блага в мире, моя добрая мистрис Редмайн. Пусть молодая особа играет, сколько ей угодно и забудет о моем темном существовании. Я приехал к вам не на такое короткое время, чтобы принять подобную жертву. Мне хотелось бы пробыть у вас подольше и ездить отсюда в Лондон, когда соберусь с силами. Я привык трудиться и не могу оставаться долго без дела.
Мистрис Джемс взглянула на большой сундук, поставленный у двери гостиной, и на кучу книг в старых кожаных и бумажных переплетах, выброшенных из него на пол.
— Вы, кажется, не намерены лениться здесь, сэр, — сказала она, простосердечно считая чтение самою трудною работой.
— Нет, — отвечал мистер Вальгрев с легким вздохом. — Адвокат должен много и серьезно заниматься, чтобы иметь успех в свете, а я не стыжусь сознаться, что считаю известность наградой, для которой стоит трудиться.
Он впадал в откровенность, тон его стал уже менее апатичным. Грации он более нравился после его слов об ее музыке. Она тихо вернулась на свое место и принялась за работу, стыдясь, что позволила себе подслушивать.
После обеда, за которым он ел умеренно и с видом человека, равнодушного к пище, мистер Вальгрев закурил сигару и вышел в сад. Солнце уже село, но над западною стеной еще догорала алая заря, а выше небо было бледно-зеленое, постепенно темневшее, сохраняя только местами яркий оттенок и напоминая опал с его пятнами. Губерт Вальгрев шел медленно по траве, лениво наслаждаясь красотой места и атмосферой.
— Право, это совершенство в своем роде, — сказал он. — Старый Ворт не преувеличивал, хваля красоту, места. Каждая часть старого дома имеет свою оригинальную прелесть, каждая тропинка в этом саду восхитительна. Но все же трудно представить, как человек может жить здесь год за годом, вдали от жизненной борьбы и без всякой цели впереди, радуясь, что это лето даст ему урожай не хуже прошлого, что доход текущего года будет только немногим менее, а может быть и более дохода прошлого года, спокойно следя месяц за месяцем за жизнью природы, за высиживанием яиц, за ростом шерсти, за откармливанием скота, за созреванием ржи и ничего не ожидая от будущего. Нет я не могу себе представить чувства этого человека. Я скорее согласился бы сидеть в доме умалишенных или в тюрьме, чем жить такою жизнью.
Человек, находившийся в это время в Австралии, ожидая счастия в золотых приисках, разделял чувства мистера Вальгрева. Он тоже не был создан для жизни фермера.
Пока мистер Вальгрев бродил медленно по саду, останавливаясь по временам, чтобы полюбоваться на розовый куст, но тотчас же забывая о своем намерении, и глядел на цветы, очевидно, не замечая их, Грация следила за ним из-за канифасового занавеса, интересуясь знать, о чём он думает и каково его прошлое.
Мистер Ворт сказал им о нем очень немного, — только, что у него нет близких родных и что он одинок, но этого было достаточно, чтобы возбудить сочувствие к нему в мягком сердце девушки. Она жалела его, полагая, что такое одиночество должно быть источником грусти. Когда же она увидела его, сожаление значительно ослабело. Он не смотрел человеком, жизнь которого омрачена горем. Он казался ей человеком холодным, энергичным, и она припоминала его слова об успехе в жизни. Он честолюбив, а для честолюбивого человека сердечные привязанности имеют мало значения, думала Грация. И он непременно достигнет своей цели и будет судьей или чем-нибудь в этом роде. Она очень мало сочувствовала форме его честолюбия. Будь он военный, задавшийся мыслью отличиться пред своими товарищами, она считала бы его героем. Но адвокат… трудно окружить романтическим сиянием голову в парике с безобразною черною заплаткой на макушке. Грация была однажды в маленькой судебной палате в Медстоне, когда у ее отца был незначительный процесс, и составила себе понятие о судебном сословии по двум или трем ленивым судьям, которых видела там.
Было около десяти часов вечера, когда мистер Вальгрен докурил третью сигару, подробно осмотрев оба сада и заглянув на двор фермы, где семейство безукоризненных поросят визжало и состязалось над своим ужином, состоявшим из плохого картофеля и снятого молока, и возвратился в свою гостиную. Две тусклые свечи горели и больших старомодных подсвечниках накладного серебра. Он позвонил и потребовал еще пару, поставил все четыре свечи у своего левого локтя, выбрал из кучи книг четыре толстые тома и начал читать.
Не прошло десяти минут, как послышались звуки фортепиано и тихое пение.
Он оттолкнул от себя книги и опрокинулся на спинку кресла.
— Если это будет продолжаться, — пробормотал он, — мне лучше и не приниматься за работу, а если это будет повторяться каждый вечер, Брайервуд увидит меня не долго.
Он, однако, слушал, и скоро нахмуренный лоб прояснился и на лице его показалась слабая улыбка. Он прослушал жалобный немецкий вальс, очень старый и сыгранный с нежною грацией, соответствующей мелодии, прослушал старую балладу «О, помните ли, как мы встретились с вами в первый раз?», стоящую сотни наших современных гостиных романсов. Он слушал, и слушал с удовольствием. Но музыка продолжалась не более четверти часа. Не много времени пришлось потерять. Он возвратился к своим книгам с подавленным вздохом сожаления и постарался сосредоточить мысли на решении государственного судьи в одном важном деле, несколько сходном с тем, которое он должен был защищать в следующую зиму.
Этот тихий, нежный голос преследовал его несколько времени, мешая ему оценить по достоинству самые важные пункты в речи судьи. Ему с трудом удалось освободиться от него, и он не был бы недоволен, если бы пение началось снова.
Но этого нельзя было ожидать. Он слышал хлопанье дверей, стук засовов и замков у наружных входов, и скрип старой лестницы под легкими и тяжелыми шагами. Вошла служанка, чтобы спросить, не нужно ли ему что-нибудь и в котором часу он будет завтракать на следующее утро.
— В девять или в десятом. Я не люблю вставать рано. Кто это пел сейчас?
— Мисс Грация, сударь. Она у нас мастерица петь.
И служанка поклонилась и вышла, удивляясь на лондонского джентльмена, которому для чтения нужны четыре свечи.
— Должно быть, так всегда делается в Лондоне, — подумала она. — Они, бедные, слепнут там от дыма.
Мистер Вальгрев читал почти до трех часов, потом угостил себя успокоительною сигарой, выпил стакан холодной воды и ушел в свою спальню, в большую старомодную спальню, в которой Ричард Редмайн провел столько беспокойных ночей, раздумывая о своих затруднениях.
Глава IV. ТИЦИАНОВ ЦВЕТ
Следующее утро было ясное и теплое, настоящее июньское утро и к тому же воскресное, оживленное благовестом кингсберийских колоколов, звонивших гимн, который доносился мягко и отчетливо до Брайервуда и врывался в отворенное окно Губерта Вальгрева, вплетаясь в сновидение, в котором он видел себя далеко от Брайервуда, слушающим голос, не отличающийся мягкостью голоса Грации Редмайн. Колокола разбудили его наконец, и он, зевнув, осмотрелся и обрадовался, увидев себя в тихой ферме. «Слава Богу за спокойный день, — подумал он. — Ни религиозной церемонии в атмосфере, пропитанной пачулей при двадцатипятиградусной жаре, ни Кенсингтонского парка после завтрака, ни мелких скандалов и сплетен, ни страшного, страшного, страшного обеда в восемь часов вечера, под аккомпанемент монотонных шагов одинокого путника в пыльном сквере, раздающихся в промежутках между разговорами, ни Мендельсона вечером не придется испытать здесь. Слава Богу за день отдыха, за день, в который я могу жить моею собственною жизнью».