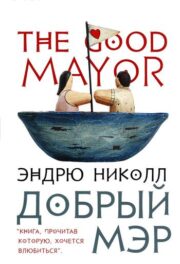Итак, маятник качнулся назад, и теперь Тибо гордился своей верной, крепкой любовью и рассматривал ее как доказательство своего благородства и вероломства Агаты. Это она виновата в том, что он никак не может излечиться, она виновата в том, что он изо дня в день должен выносить пытку ее красотой, ее ароматом, ее глубокими, темными, печальными глазами.
За все эти три года он ни разу не сказал ей о своей боли, ни разу не намекнул, что страдает, ни разу ни в чем не упрекнул ее — и при этом в глубине души понимал, что это ежедневное проявление любви Агата принимает за безразличие. Его ранило, что она не замечает того, что он для нее делает, но тем слаще становилась его жертва. Иногда он, впрочем, замечал, что упивается ее холодностью. Тогда он обхватывал голову руками и бормотал про себя: «Жалкий тип!» Ибо жалок человек, набравшийся мужества молчать о том, о чем три года назад боялся заговорить, пока не стало слишком поздно.
Тибо одолевали обычные фантазии отвергнутых поклонников. Он представлял, что умер, однако все-таки способен с горькой радостью видеть, как Агата льет на его могиле слезы раскаяния. Он снова и снова рисовал в воображении день, когда она вдруг одумается и постучит в его дверь, будет умолять о прощении, признает, что ошибалась, назовет его хозяином своего сердца. А потом — радостный, благословенный момент, когда он сможет осушить поцелуями ее слезы, сжать ее в объятиях и отнести на кровать. Но даже три года спустя Тибо еще задумался бы, не поддаться ли сладостному искушению просто захлопнуть дверь у нее перед носом.
Однако Агата и не думала раскаиваться. Она ни разу не попросила прощения и ни разу не сказала ни единого слова участия, хотя Тибо и был уверен, что порой читает в ее глазах нечто вроде болезненного сочувствия. Это был ее дар ему, ведь на самом деле ей хотелось приласкать его и утешить. Но она оставалась отстраненной и холодной, потому что надеялась, что это его излечит. Вот что она делала ради него, а он принимал это за жестокость.
Но это не было жестокостью. Агата не была способна на жестокость. Она полагала, что это проявление вежливости. Она предлагала ему тот же самый удобный и надежный покров секретности, который набросила на свою собственную жизнь.
Агата никогда и никому (и в первую очередь Тибо) ни слова не говорила о своей жизни за пределами Ратуши. Она никогда не упоминала о квартире на Приканальной улице, никогда не рассказывала о Гекторе и о том, что он делал, ни разу не обмолвилась об очередной картине, которую он бросил, не закончив, или о том, что он никак не приступит к новой, потому что для этого нужно вдохновение, а заниматься искусством — вовсе не то же самое, что класть кирпичи или разносить бутылки с молоком. Когда Гектор находил работу, она никому об этом не сообщала. Она молчала, когда он тратил все деньги — и свои, и ее. Молчала, когда он снова терял работу — а он терял ее постоянно. Она никогда не признавалась (в особенности себе самой) в том, что уже очень давно в ее груди поселилось грызущее разочарование — обычно оно вело себя тихо, но иногда показывало зубы и превращалось в нечто вроде страха. Она никогда не говорила о тех ночах, днях и снова ночах, когда она не вылезала из постели даже чтобы приготовить что-нибудь поесть, чтобы не потерять ни мгновения, которое можно провести с ним. Она никогда не говорила об этом — тем более с Тибо. Она была молчалива, спокойна и сдержанна. Так она защищала себя — и из вежливости предлагала ту же защиту Тибо. Она никогда ни о чем его не спрашивала и делала вид, что ни о чем не знает, холодная, прекрасная и твердая, как мрамор.
В то утро, когда она постучала в дверь Тибо, она была особенно прекрасна.
— Входите, госпожа Стопак, — сказал он.
Она вошла, окруженная ароматами «Таити» и отзвуками далекого ангельского хора, и когда она заговорила, Тибо постарался сконцентрировать внимание на маленькой родинке над ее верхней губой, которая была словно точкой в длинном рассказе о ее великолепии. Но это не помогло. Его голову заполонил сонм образов. Агата обедает с ним — как давно это было. Агата голая. Агата у фонтана. Две улитки с тигровыми полосками на раковинах, которых он встретил однажды по дороге к маяку, — они ползли, выбиваясь из сил, от одного островка травы к другому, который не могли ни увидеть, ни представить, ползли через бесконечный пыльный океан зазубренного гравия и переползли его уже на три четверти, когда он поднял их и перенес к месту назначения. Агата голая. Агата, идущая по Замковой улице. Агата голая. Ее запах, ее звук, она прижимается к нему у ворот парка. Агата голая. И зачем? К чему все это? Что более бессмысленно: две улитки на дороге или жизнь без Агаты? И какое это имеет значение?
— Утренняя почта, — сказала Агата и аккуратно положила на стол кожаную папку.
— Спасибо, — сказал Тибо. Сказал он это автоматически, не сознавая, что говорит, и в суде под присягой, в присутствии адвоката Гильома, он поостерегся бы утверждать, что произнес это слово. «Просто закрой глаза и подумай о чем-нибудь хорошем», — сказал он себе. Но это не сработало. Его глаза были открыты. «Смерть — это тоже приключение!» — одна глупая мысль следовала за другой. Черт бы побрал предыдущее поколение членов Библиотечного комитета! Если бы они не догадались приобрести «Питера Пэна», он не прочитал бы его, и тогда, может быть, сейчас его жизнь была бы лучше. А может, и нет.
— Ничего особенного нет, — сказала Агата.
— Да.
— Я имею в виду, в почте.
— Да, я понял.
— Не знаю, собирались ли вы…
— Да, собирался. — Его раздражало, что даже сейчас они могли читать мысли друг друга, заканчивать начатые другим фразы.
— Хорошо. Конечно. Извините. — Агата положила на стол вторую папку. — Расписание сегодняшних мероприятий. Заседание Планового комитета — в одиннадцать. Обеденное время свободно.
«Оно всегда свободно», — подумал Тибо.
— В три часа вы должны присутствовать на открытии нового физкультурного зала в Западной школе для девочек.
— Разрезание ленточки?
— И гимнастическое представление. Но это уже не вы, это девочки. И потом ничего до общего заседания Городского Совета. Вот повестка дня.
— Спасибо, госпожа Стопак, — сказал Тибо, пристально глядя на лежащие перед ним папки. И повторил: — Спасибо. — Когда она уходила, он, не поворачивая головы, проводил ее глазами и прошептал: — О, Боже мой! О, святая Вальпурния!
Потом Тибо приступил к работе. Работа была бумажная: он писал на листах бумаги, читал листы бумаги, долго смотрел на листы бумаги или перекладывал их из папки в папку. В какой-то момент ему понадобились скрепки, но блюдце, где они обычно лежали, оказалось неожиданно и необъяснимо пустым. Тибо открыл ящик. Долгий опыт общения с письменными столами научил его, что в каждом ящике стола в любом кабинете непременно найдется запылившийся леденец, тупой карандаш, устаревшее железнодорожное расписание и уж точно хотя бы одна скрепка. Он засунул руку поглубже, и в самом конце ящика, под двумя прошлогодними рекламными календарями, нащупал твердый бумажный прямоугольник. Тибо, конечно, успел забыть об открытках из музея, но стоило ему прикоснуться к конверту, как воспоминание о том дне ожило в его памяти.
Не было никаких причин не вынуть конверт, не было никаких причин не взглянуть на открытку, которая, как он знал, должна там лежать, и не впустить в голову те мысли, которые при виде этой открытки возникнут. Но Тибо почему-то казалось, что это было бы неправильно. Это значило бы поддаться слабости и расковырять рану, к которой он твердо решил больше никогда не прикасаться. Поэтому он солгал сам себе и притворился, что не понимает, что это за хрусткий, словно осенний лист, конвертик лежит у него в столе.
— Интересно, интересно… — пробормотал он и замер. Бессмысленно. Обманывать некого, разве что самого себя — а это не получится. Он вытащил открытку из конверта и положил на стол. Прекрасная женщина у стремительного водопада. Диана. Разъяренная богиня с испепеляющим взглядом ледяных глаз. Агата. Три года не изменили ее. Она была все той же. Тибо вздохнул, взял открытку, разорвал ее пополам, потом еще раз, и бросил в мусорное ведро. Ничего не должно оставаться, решил он, никаких свидетельств. Ничего. Но даже ничто — уже что-то. Тот факт, что он уничтожил открытку, был доказательством некоего другого факта, и само небытие этой открытки — как и той, другой, которую он послал по почте — имело не меньшее значение, чем ее присутствие в глубине ящика. То же самое и с мылом, что он дарил ей, давным-давно уплывшим в сливную трубу, и с давным-давно съеденным рахат-лукумом, и с лотерейными билетами, не принесшими ни гроша. По прошествии трех лет на их месте по-прежнему зияла пустота, похожая на оставшийся на стене след снятой картины, нестираемый знак отсутствия.