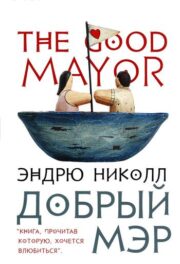Это было так здорово, что не имело уже никакого значения, как я выгляжу, и что слова мои исходят изо рта, обрамленного густой растительностью. Я сказала:
— Добрый Тибо Крович, вот что ты должен делать: любить. Люби же! И более того, будь готов быть любимым и принимать дары любви.
Потом, поскольку в таких случаях обычно полагается завершать речь чем-нибудь загадочным, я прибавила:
— Ты любим более, чем тебе кажется, Тибо Крович, и у тебя есть друг, который поможет тебе, когда по твоему следу пустят собак. Отыщи его!
Я повторила последнюю фразу еще несколько раз. Потом, когда последние частицы звездной пыли легли на ковер, занавес из летучей паутинки опустился, а я шагнула назад и снова оказалась на городском гербе.
— Отыщи его! Отыщи! — сказала я в последний раз. Кажется, немного переиграла.
Однако когда в кабинете снова воцарилась тишина, когда дыхание Тибо успокоилось и он встал с колен, чтобы ощупать герб и убедиться, что перед ним всего лишь кусок раскрашенного дерева, он чувствовал себя счастливым и знал, что делать.
— Я — мэр Дота! — сказал он вслух. Потом подошел к столу Агаты, взял лист бумаги с эмблемой Городского Совета, что-то написал на нем своей перьевой ручкой и стремительно, едва ли не бегом покинул Ратушу. На набережной он поймал такси, и через семь минут (поскольку у редакции «Ежедневного Дота» дорога была забита грузовиками с газетной бумагой) вышел у здания суда. Он прошел внутрь, кивая знакомым, сложил свою записку пополам и у проходной вручил ее человеку в синей форме.
— Будьте добры, передайте это адвокату Гильому, — сказал он.
— Конечно, господин мэр. Рад снова видеть вас в суде.
— Спасибо. Я подожду ответ.
Дверь проходной захлопнулась у Тибо перед носом. Он засунул руки в карманы и принялся насвистывать песенку «Парень, которого я люблю». Через несколько минут охранник вернулся и протянул ему тот же самый сложенный лист бумаги.
— Пожалуйста, господин мэр.
Тибо развернул листок. Под его запиской была другая, столь же краткая, написанная более крупным и вычурным почерком: «Любезный Крович, надеюсь, что смогу чем-нибудь Вам помочь. Заходите ко мне в гости сегодня в любое время после девяти. Улица Лойолы, 43». И пониже: «Надеюсь, у вас нет аллергии на панголинов. Ваш Е. Г.».
~~~
Когда Тибо прибыл на улицу Лойолы, уже сгущались летние сумерки. Между помигивающими фонарями носились упитанные летучие мыши. Тибо вышел из парка имени Коперника через боковые ворота и попал в мир лавровых живых изгородей и ворот с коваными железными створками и поросшими мхом каменными столбами. Над воротами красовались витражи с изображением переполненных фруктами корзин или пышных девушек в легкомысленных одеждах из листьев, и только над воротами дома № 43 никаких витражей не было, только строгие латинские цифры XLIII. Тибо прошел по садовой дорожке до парадной двери и увидел под огромным дверным молотком листок бумаги с запиской: «Входите, Крович».
Тибо один раз громко стукнул молотком по двери, подхватил упавший листок и вошел в здание, наполненное эхом его удара.
В темноте дом Гильома казался беспредельно огромным — этакое пространное, необъятное царство теней, отзвуков эха и верениц закрытых дверей. Тибо остановился у начала гигантской лестницы, позаимствованной, вероятно, у затонувшего океанского лайнера, и прокричал в темноту:
— Добрый вечер! Господин Гильом, вы слышите? Это я, Тибо Крович!
Наконец, за спиной у него открылась дверь, и на пол упад прямоугольник желтого света.
— Там меня искать не стоит, — сказал Гильом. — Второй этаж моего собственного дома для меня уже много лет terra incognita. Кажется, там семнадцать комнат. Иногда я вижу их во сне. — Он протянул Тибо руку. — Извиняюсь за не самый радушный прием, Крович. Услышав ваш стук, я поспешил вам навстречу со всей доступной мне скоростью. Входите.
Однако прежде чем они отправились в долгую, медленную прогулку до кабинета, Гильом вопросительно поднял бровь:
— Да, кстати, я спрашивал, нет ли у вас аллергии на панголинов?
— Спрашивали, — сказал Тибо. — Насколько мне известно, нет, хотя я никогда еще не видел ни одного панголина.
— Ни разу не видели панголина? Господи, Крович, поразительно, до чего же замкнутую жизнь вы ведете. Сейчас мы исправим это упущение.
На полке в глубине полутемного кабинета стояло чучело мангуста, схватившегося с мертвенно-бледной коброй. Когда глаза Тибо привыкли к тусклому освещению, он заметил еще одного мангуста, пляшущего вокруг сухой ветки, и еще одного, отскакивающего от броска змеи. Всего их было шесть штук, этих таксидермических композиций, недвижно извивающихся по кабинету в пыльном гавоте смерти и злобы, когтей, клыков и яда.
— Необычно, — проговорил Тибо.
— В высшей степени, — отозвался Гильом. — Получил в уплату долга, знаете ли.
Он издал губами тихий щебечущий звук, и из полумрака, как и было обещано, явился панголин. Пробираясь между замершими кобрами, он потряхивал головой и постукивал чешуйками.
— Позвольте мне представить вам Леонида, — сказал Гильом, и, слегка кивнув каждому, продолжил: — Господин мэр, панголин Леонид. Леонид, мэр Тибо Крович.
Леонид ожидающе посмотрел вверх, и Гильом почесал его розовые свиные ушки.
— Да-а-а, мы это любим, правда? — ласково проворковал он. — Знаете, Крович, копченые чешуйки панголина считаются лекарством от сифилиса. Правда, я понятия не имею, в каком виде их употребляют после копчения. Жуют? Заваривают в чае? Втирают в пораженный орган? Кто его знает? — Гильом повернулся, чтобы еще раз нежно потрепать пухлые ушки своего любимца. — Но мы не позволим злым дядям сделать такое с маленьким Леонидом, правда? Нет, ни за что. Пусть они даже не пытаются, эти гадкие злые дяди со своими вонючими болячками!
В углу кабинета стоял письменный стол, из-за которого адвокат встал, когда отправился встречать гостя. Большая часть комнаты пребывала в полумраке, но стол был ярко освещен двумя лампами. На нем стояло огромное увеличительное стекло в специальном держателе, а под стеклом — крошечный зажим. С помощью похожей конструкции рыбаки зимой изготавливают искусственных мух. Рядом фиолетово поблескивала чернильница, а вся остальная поверхность стола была, словно снегом, усыпана рисовыми зернами.
— Хобби, — пояснил Гильом. — Хотите взглянуть? — Он жестом пригласил Тибо присесть и поправил увеличительное стекло. — Я в этом деле еще новичок, — скромно прибавил он. Однако на рисинке, зажатой в тисках, явственно можно было прочесть первую строчку какого-то странного стихотворения: «Вот где водится Снарк! — закричал Благозвон»,[5] — с восклицательным знаком и тире, все, как положено.
Поразительно. Тибо отвел глаза от увеличительного стекла. Невооруженным глазом на рисинке было лишь едва заметно чернильное пятнышко.
— Однажды я начал даже писать «Прости нам наши прегрешения», но не смог уместить молитву на одном зернышке. Попытаюсь снова. Этот текст, надо сказать, пользуется популярностью среди тех, кто разделяет мое странное увлечение. Не могу понять, почему. Равно как и почему все произведение непременно нужно уместить на одном зернышке. Почему бы не делать целые книги из разбитых по рисинкам предложений, чтобы потом воссоздавать поэзию из разрозненных кусочков? Представьте: ризотто из любовных писем, паэлья из саг, плов из сонетов, джамбалайя из словарей? И все такое маленькое, кроме идей. Маленькое! Думаю, это меня и привлекает. Я покупаю пакет риса и изучаю каждое зернышко в надежде, что найдется хотя бы одно, вышедшее за пределы ординарной рисовости, развившее в себе некие оригинальные черты, дающие простор для какой-нибудь новой идеи — но не нахожу такового. Удивительно, до чего природа стремится к стандарту. Она установила пределы для всего, от диатомеи до голубого кита. Для всего и для всех, кроме меня. Я не вмещаюсь в ее рамки. Извините, я должен сесть.
Тибо поспешно поднялся с кресла и усадил в него Гильома. Тот изнуренно вздохнул.
— Только подумайте, сколько труда и средств вложено в эти крошечные зерна. Бесконечные часы изнурительного труда на залитых водой полях, над которыми роятся тучи москитов; тяжелая поступь буйвола, похлопывание его хвоста, жгучее солнце, пиявки, боль в спине от сотен тысяч наклонов — и все ради того, чтобы произвести вот это, — Гильом пошевелил рисинки пальцем. — И даже объехав полмира и оказавшись на полке в универмаге Брауна, рис продается за гроши — вот как дешево стоит человеческий пот. А посмотрите, какой он белый, сама белизна — и в то же время ничего белого в нем нет. Взгляните-ка, — он поднял одно зернышко. — Жемчужно-серое. Есть почти прозрачные, словно шлифованное стекло, а у некоторых в середине можно разглядеть белую точечку — видите? Порой они напоминают мне насекомых в янтаре, но вот эта похожа на крошечную снежинку, вмерзшую в лед. Почему? Можно ли это как-то объяснить? Полагаю, рано или поздно о рисе будет написана книга. Наверняка ее замысел уже созрел в чьей-то голове. Увы, не в моей. Я всегда слышу шум крылатой колесницы времени за спиной. В этой книге должно найтись место даже для тех ужасных дешевых желтых зерен продолговатой формы, которые привозят из Америки. Целую главу, возможно, следует посвятить арборио. Это будет длинная извилистая глава, плывущая по медленным изгибам реки По, скользящая, словно водомерка, по ее малярийным болотам… Потом Турин, и в самом конце — лужа чернильного ризотто. Десятки страниц необходимо уделить басмати. Это принц риса. Насыщенный, ароматный, почти цветочный вкус. Я могу есть его просто так, без ничего, только немножко посолив. Не сомневаюсь, что тысячи, нет, миллионы людей поступают так каждый день. Но еще больше миллионов удовлетворяются меньшим или вовсе ничем. У индийцев есть пословица: когда готовишь рис, зернышки должны быть как братья: близко друг к другу, но не слипаться. Басмати — излюбленный сорт риса для тех, кто следует моему странному призванию. У него плоские зерна — идеальная поверхность для письма. Они все одинаковые — и в то же время разные, двух полностью идентичных не найдешь. Чуть разный размер, немножко иная форма — то слегка изогнутая, то капельку скошенная. А то и щербинка попадется. Очень похоже на нас, господин мэр. Очень похоже на жителей Дота, которых вы так любите. Все мы слегка изогнуты, капельку скошены или со щербинкой. Возможно, это относится даже и к вам. Не потому ли вы пришли ко мне под покровом ночной темноты?