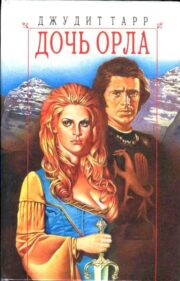— Со мной ничего не случится, — повторяла она в исступлении. — Беги, Деметрий. Спасайся. Мы придумаем, как потом тебе вернуться.
Она видела: ее уговоры подействовали. Его лицо передернулось, казалось, он сейчас заплачет. Но она выиграла: он поспешно натягивал одежды, разбросанные у кровати. Вряд ли они подходят для бегства, но плащ скроет их, а в них целое состояние: золотое и серебряное шитье, драгоценные камни на воротнике, да и сам шелк, сотканный в императорских мастерских.
В коридоре послышался топот, звон металла.
— Варяги, — сказал Деметрий. — Не уйти.
— Задняя дверь, — шепнула Аспасия, — через сад. Быстрее!
Он кинулся туда. Она затолкала узел под кровать, подняла полог. Она даже обрадовалась, мельком увидев в зеркале свой ужасный вид — брюхатая, опухшая, с темными кругами под глазами.
Деметрий распахнул дверь. Повернулся к ней. Она навсегда запомнит его таким. Худая фигура в сверкающих из-под темного плаща одеждах; тонкое бледное лицо; глаза, остановившиеся на ней с просьбой не забыть.
Наверное, это мгновение и погубило его. Люди Иоанна выломали дверь. Они ворвались, огромные, бородатые, с волосами, заплетенными в косы, одетые в алое с золотом. Вооруженные топорами. Они даже не взглянули на женщину в кровати. Они бросились к Деметрию.
Он стоял неподвижно, безоружный. Да он и не знал бы, как им воспользоваться, будь у него оружие. Он был спокоен. Он почти улыбался.
— Беги! — отчаянно закричала она.
Он повернулся и выскочил в дверь. Он не боялся; он не боялся умереть. Она все поняла. Он не хотел, чтобы она видела, как его убьют.
Отчаяние и бессильная ярость душили ее. В ее спальню — спальню царской дочери — вломились эти наймиты, они пришли, чтобы убить ее мужа! И она была бессильна это остановить. Она слышала крики в саду, топот ног. Тело не повиновалось ей, только бешено горели глаза на помертвевшем лице. О, если б ярость могла убивать!
Она не видела, что происходит в саду. Может быть, Деметрий успел скрыться? Господи, помоги ему убежать!
Варяги зашумели все вместе, снова бросились. И тогда она услышала звук, который никогда не забудет. Пение топора, рассекавшего воздух; жуткий мокрый звук рассекаемой живой плоти, треск кости.
Он не испустил предсмертного крика. Пал молча. Он встретил смерть лучше, чем его император. Чище и мужественней. Но все равно это был конец.
3
Ломбардец вернулся.
Прошедшие со страшной ночи два года немного затянули кровоточившие раны и приглушили боль. Иоанн Цимисхсий так уверенно сидел на троне, будто и не был убийцей и узурпатором. Дочь содержателя таверны за предательство получила плату своей же фальшивой монетой: ее сообщник, которым она надеялась управлять, заточил ее в монастырь, обвинив в цареубийстве, и она знала, что ее неверный возлюбленный разделил трон с новой императрицей.
Сестра Аспасии Феодора, которую освободили из монастыря, чтобы Иоанн, женившись на ней, получил законные права на престол, была, как это часто свойственно царственным женщинам, великодушна. Она была самой красивой из сестер — высокая, с пшеничными волосами, с голубыми, как у их отца, глазами. Рядом с ней Аспасия казалась себе еще меньше, смуглее и невзрачнее.
Глядя на прекрасную Феодору, вполне довольную своим красивым и жестоким мужем и малюткой-дочерью в колыбельке, Аспасия скрывала точившую ее зависть. Она с горечью видела, как опять полнеет стан под одеждами императрицы.
Аспасия потеряла своего ребенка через неделю после той страшной ночи. Это был бы сын. Теперь она никогда не сможет родить ребенка.
Тогда в ней все умерло. И в этом было ее спасение. Когда убийцы ушли, она нашла в себе силы подняться с постели. Она разыскала спрятавшихся слуг и управляющего. Она распорядилась приготовить все, что положено для похорон. Потом она отправилась во дворец. Не для того, чтобы мстить. Она ни о чем не думала. Как смертельно раненное животное, она шла умирать туда, где родилась.
Мать Феофано еще была тогда царицей. Феофано просила ее за подругу, и ее просьбу услышали. Аспасия родила своего ребенка в спальне Феофано, и только несколько минут он дышал. Думали, что и она не выживет. Пока она находилась между жизнью и смертью, прежняя царица была сослана, и новая заняла ее место. Теперь уже едва оправившаяся Аспасия потащилась просить за Феофано. Феодора была не только прекрасна, но и умна: она заставила их принести клятву, что они не будут мстить ей и ее мужу. Феофано поклялась без всяких колебаний. Аспасии это далось труднее. Но гордость царевны и византийки боролась в ней с нежеланием жить.
— Моя месть в том, что я выживу, — сказала она Феофано. — Иоанн всегда должен знать, что я живу, что я та, кто я есть, и что я ему якобы простила. Ему, который не простил и не забыл ни единой мелочи, вряд ли это будет легко. Я переживу его, Фания. Я дождусь и еще плюну на его могилу.
Феофано ничего не ответила. Ее красота уже полностью расцвела, и лицо ее в спокойном молчании казалось ликом святой. Аспасия знала, как обманчива эта безмятежность. Феофано тоже чего-то ждала, но чего — она об этом молчала.
Но в одном они были единодушны. Они не позволят, чтобы на них надели монашеские одежды. Император, наверное, охотно упрятал бы их в монастырь, но, к счастью, у него было много других, более срочных забот, а Феодора не была склонна подвергать сестру тому, от чего сама недавно страдала. К достоинствам Феодоры относилось отсутствие злорадства и мстительности.
И вот через три года ломбардец снова вернулся. На сей раз не он возглавлял посольство, но он все равно приехал с ним. Он был не менее упрям, чем сам германский король.
— Ты не могла бы, — попросила Аспасия, — подвинуться немного?
Феофано подвинулась. На скамеечке было достаточно места для двоих, особенно если одна была такой миниатюрной, как Аспасия. Видно отсюда было прекрасно. Аспасия полагала, что даже немногие из евнухов знают о существовании этого помещения, тесного, как шкаф, откуда, из-за резной каменной решетки, открывался отличный вид на Золотой зал. Они находились наверху, над рядами выстроившихся придворных, и хорошо видели и императора, и посольство перед ним; отсюда было слышно каждое слово, видно выражение лиц.
Аспасия положила руки на подоконник и оперлась на них подбородком. Как бы ни устала она от жизни, зрелище, открывавшееся внизу, никогда ей не надоедало. Золотой зал, Хризотриклиний.
Во дворце, славящемся своей роскошью, этот зал был самый великолепный. Он был достаточно велик, чтобы вместить весь императорский двор, и был весь золотой: золотые стены, золотые колонны, золотой пол. Он был как будто из одного сияния, как будто дом Бога. Здесь правил бог, говорили философы, бог, воплощенный в священной персоне императора.
Центром был трон, находившийся в сводчатом изгибе апсиды, под образом Иисуса Христа, на широком помосте, покрытом золотым ковром. Позади тремя рядами стояла стража, сверкающая шитыми золотом одеждами и оружием: в первом, ближайшем, ряду стояли самые знатные и заслужившие наибольшее доверие императора, во втором ряду — те, кому еще предстояло его заслужить, а в третьем, внешнем, — варяги, в алом с золотом, с топорами на плечах. У Аспасии при виде этих топоров сжималось сердце.
Она заставила себя перевести взгляд на те чудеса, которые приводили в изумление каждого, кто попадал сюда впервые. Возле трона стояло сияющее золотое дерево. Золотые птицы, усыпанные драгоценными камнями, сидели на его ветвях, распускали крылья и пели. У ног императора присели золотые львы. Время от времени они приподнимались, били хвостами и испускали рычание.
Пока все молчали, воздух был наполнен музыкой: звучными аккордами двух больших золотых органов, медным гулом труб, пением императорских хоров, провозглашавших хвалу императору и Господу Иисусу Христу, для которого почетная правая сторона трона оставалась свободной: священники говорили, что Он заполнял ее своим присутствием.
Иоанн Цимисхсий выглядел вполне по-императорски, этого Аспасия не могла отрицать. В багряных высоких сандалиях, в шелковом одеянии и в золотой мантии, в большой золотой короне с жемчужными подвесками он не был похож на человека из плоти и крови. Волосы его почти так же сияли, как золото, венчавшее их; борода цвета красного золота, густая, длинная, вилась роскошными локонами; лицо казалось вырезанным из слоновой кости. Только руки портили впечатление: короткие толстые пальцы, огрубевшие от работы, руки солдата, привыкшие сжимать рукоять меча, а не драгоценные царские регалии. Он сидел неподвижно и величественно, но его руки беспокойно играли жезлом, пытаясь согнуть его.