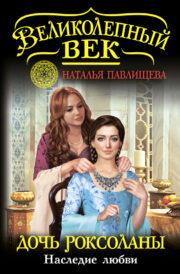– Договорились, – смеялась Михримах.
В присутствии Эсмехан ей становилось легче, забывалось даже собственное отвратительное состояние. Подруга успокаивала:
– У тебя скоро уже все закончится. Тошнит только первую половину, потом будет легче.
Уезжая, напоминала:
– Не забудь: наши дети поженятся, а следующую дочь ты назовешь Хюмашах, как и я свою.
Глядя вслед счастливой подруге, Михримах начинала верить, что так и будет, но уже немного погодя снова стояла на коленях, стараясь дышать глубже, потому что мутило.
(Они с Эсмехан не ведали, что из всего задуманного сбудется только одно – две дочери, две Хюмашах Султан…)
Возможно, потом все и наладилось бы, ей стало бы легче, но до того не дошло.
Сидеть одной в пустом дворце тошно и без приступов. Михримах решила вернуться в Топкапы. Ребенок уже впервые толкнулся в ее животе, но сил даже радоваться не оставалось.
Весна – лучшее время года везде, а в дворцовых садах особенно. Все зазеленело, птицы завели свои трели, солнце светило так, словно извинялось за зимнее ненастье…
Но весна Михримах не радовала, и теперь уже не из-за приступов дурноты. Ее везли осторожно, но все равно что-то повлияло, начались рези. Роксолана ужасалась:
– Михримах, нужно вызвать акушерку, это добром не кончится. Я ездила верхом почти до самых родов и не замечала ничего, кроме растущего живота.
– Зато и рожали раньше времени.
Пришлось согласиться, так и было, у Роксоланы все дети рождены до срока, но ведь все выжили! Однажды Михримах спросила мать, тошнило ли ту. Роксолана, смеясь, ответила, что только один раз из шести, и так выразительно посмотрела на дочь, что та поняла: тошнило именно когда ходила ею.
– Значит, у меня девочка? Мы с Эсмехан договорились дочерей назвать Хюмашах.
Роксолана не знала о страшных словах, в запале произнесенных дочерью, Рустем никому о них не сказал.
Пришедшая акушерка сокрушенно покачала головой:
– Госпожа может родить раньше времени.
– Но еще совсем рано?!
– Вот потому и страшно.
Страшный прогноз сбылся: малыш родился не просто недоношенным, он был так мал, что шансов на жизнь не имел никаких.
Рустем был на другой стороне Босфора; услышав о проблеме, стрелой метнулся домой. Увидел заплаканную Хикмат, все понял.
– Что?!
– Ваш сын был слишком маленьким, чтобы выжить, паша… Слишком маленьким…
– А султанша?
– Она слаба, но неопасно.
В первой комнате сидела Роксолана, поникшая, бледная…
– Паша… Малыш не выжил, рано ему еще.
– Михримах? – он кивнул на спальню.
Теща кивнула в ответ.
Михримах лежала бледная, словно снег, на лице и без того были одни глаза, но теперь словно стали в несколько раз больше. Главное – в них поселилось все вселенское горе сразу. Сухие, без слез зеленые омуты с ужасом внутри.
– Это я виновата… Я…
Рустем ужаснулся. Он мог сказать ей многое, обвинить в том, что своими словами вызвала гнев Аллаха и гибель их сына, что виновата во всем. Но увидел муку в ее глазах и понял, что сильней, чем она сама себя, Михримах не казнит никто.
И отступило все; он мог укорить, обвинить, презрительно высказаться; имел право, но вместо этого опустился рядом с ней на постель, приподнял с подушки, прижал к себе.
– Все, все, успокойся… Все будет хорошо… Аллах еще даст нам детей, даст. Он милостив, он простит… Успокойся…
Михримах разрыдалась, теперь слезы хлынули потоком, орошая его рубаху. Она вцепилась в одежду мужа, словно боясь, что если отпустит, то он куда-то исчезнет, рыдала:
– Простите меня… Простите меня…
Сколько времени она так плакала, неизвестно, но Рустем терпел, пока поток слез не иссяк, наконец. Потом уложил жену, бережно укрыл, долго сидел, гладя по голове, как маленького ребенка, а Михримах ловила его руку и прижимала к губам. Она так и заснула, уткнувшись в ладонь Рустема. Было очень неудобно, но он терпел.
Произошло страшное: погиб, едва родившись, их первенец, но может, теперь Михримах что-то поймет? Может, хоть несчастье сделает их ближе?
На следующий день, когда Рустем зашел проведать супругу, все еще пребывавшую в постели, та расплакалась.
– Михримах, ты должна взять себя в руки. Не плачь, жизнь наладится.
Жена уткнулась в подушку, старательно отворачиваясь от него.
– Не смотрите на меня…
– Почему?
– Я страшная из-за всего этого.
Рустем тихонько рассмеялся в ответ:
– Ты самая красивая женщина для меня.
Снова поток слез.
– Неправда, я худая и страшная.
Он улыбнулся, прижал к себе, как ребенка.
– Послушай. Самая любимая женщина всегда самая красивая, независимо от того, худая или нет, рослая или нет… Хасеки Хуррем самая красивая для Повелителя даже сейчас, когда ей немало лет, а вокруг столько юных красавиц. Но Повелитель любит и видит только ее.
Заметив, что Михримах слушает уже без рыданий, Рустем вдруг усмехнулся:
– Но если ты будешь реветь, я тебя брошу.
– Не-ет!
– Брошу, брошу. Мне плакса не нужна.
Она поняла, что он шутит, уткнулась лицом в грудь мужа, звонко хлюпнула носом:
– Не буду…
(Казалось, что они вместе навсегда, что больше не будет никаких недоразумений, что все позади. Но это только казалось…)
Шли день за днем, и… ничего не менялось. Рустем-паша был занят с утра до вечера, куда-то уезжал, теперь уже на несколько дней, возвращался, проводил все время у Повелителя, в Диване или на конюшне, а бывало, и на улицах Стамбула. Домой возвращался поздно, уходил рано. Всегда интересовался здоровьем жены, дарил подарки, от которых у всех глаза разбегались, но и все…
Ночевали они в разных спальнях, о произошедшем не вспоминали, словно ничего не было. Безымянная могилка не изменила их отношений.
Рустем не раз убеждался, что Михримах понятия не имеет о жизни, которая течет за пределами Сераля. Хуррем Султан хотя бы старалась ездить по Стамбулу в закрытых носилках, слушать, подсматривать в щелку; кроме того, султанша-мать видела другой мир до своего появления в гареме, а дочь – нет. Михримах привыкла к благоуханию султанских садов, к тишине, потому что во внутреннем дворе Топкапы всегда тихо, придворные даже переговариваются знаками, для этого придуман специальный язык – ишарет.
Михримах часто рядом с султаном, а Повелителя всегда окружает тишина. Стоит султану где-то появиться, как вокруг воцаряется молчание; кажется, даже лошади и верблюды понимают, что нельзя ржать, реветь или цокать копытами. Затихает все, кроме ветра и птиц.
Еще Ибрагим-паша в его бытность Великим визирем советовал Повелителю ходить переодетым по Стамбулу, чтобы увидеть настоящую шумную жизнь города. Но Сулейман посчитал это ниже своего достоинства. Сам Ибрагим Фрэнк так поступал, это помогало немного лучше знать и город, и империю. Для Сулеймана было достаточно докладов советников.
Михримах воспитана отцом и тоже не считает нужным заглядывать за ворота Сераля кроме как для охоты или развлечения. Там, за воротами, для Михримах незнакомый и нежеланный мир.
– Султанша, не желаете сами съездить на рынок?
– Зачем?
– Посмотреть украшения.
– Фи! – пожала плечами Михримах. – Мне принесут их сюда. Сегодня придет Абдулла с браслетами, он обещал.
– Абдулла принесет только то, что посчитает нужным. А на рынке вы посмотрите браслеты, изготовленные другими мастерами.
– Мне нравится то, что делает этот мастер.
– Мне тоже, но лучше, если вы увидите и другие. Хотя бы для сравнения.
Всегдашнее спокойствие Рустема-паши очень нравилось Повелителю, но буквально выводило из себя Михримах, которая предпочитала, чтобы последнее слово всегда оставалось за ней, и терпеть не могла чьего-то превосходства в любом вопросе или споре. В мире существовали всего двое, кому она могла уступить, – султан и Роксолана. Иногда уступала Мехмеду, но только иногда. Рустем в число этих избранных не входил, ему полагалось быть на ступеньку ниже, и то, что он муж, положения не меняло. Толковых бывших рабов в империи много, а вот принцесса одна. Разие, рожденная Михримах, не в счет, она не способна конкурировать с дочерью Хуррем!
– Разве вам, султанша, не любопытно?
Любопытство – не последняя черта в характере Михримах, но не возразить мужу она просто не могла.
– Но там толпа чужих людей!
– Я буду рядом. Никто не посмеет вас обидеть или доставить неудобство. Мы не будем ходить по рядам, где торгуют чем попало, а в лавках с украшениями не бывает случайных людей.