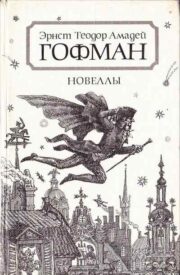— Аннунциата!
Но вот уже снова заработал механизм, и неведомая сила, будто послушный исполнитель веления самой судьбы, подхватила юношу и унесла прочь от любимой; обессиленный и измученный, очнулся он на руках своего приятеля Пьетро, который поджидал его в лодке на том же месте, где они расстались.
Тем временем толпа на галерее пришла в какое-то волнение и смятение: на троне, где восседал дож, кто-то прикрепил записку с непристойными стишками, написанными на том венецианском наречии[22], которым обыкновенно пользуются простолюдины:
Воистину наш дож Фальер
В округе первый кавалер.
Он с молодой женою
Гуляет под луною.
Ему жена по гроб верна,
С другими спит давно она.
Старик Фальери вскочил вне себя от бешенства и поклялся, что жесточайшим образом покарает того безобразника, кто совершил сей дерзкий поступок. Он обвел собравшихся грозным взором и тут заметил на площади подле галереи Микаэле Стено, который преспокойно стоял, не скрываясь, в ярком свете многочисленных огней, освещавших площадь. Не медля ни секунды, дож велел своим стражникам схватить и доставить к нему виновника учиненного безобразия. Все были необычайно возмущены таким приказанием дожа, ибо он, поддавшись охватившему его гневу, нанес оскорбление не только синьории, которая почувствовала себя ущемленной в своих правах, но и народу, не желавшему портить себе праздник из-за такого пустяка. Все члены синьории покинули свои места, остался только Марино Бодоери, который тут же бросился останавливать прохожих и разъяснять — дескать, главе государства было нанесено тяжкое оскорбление, и виноват в этом не кто иной, как Микаэле Стено, — так старик Бодоери старался обратить на него весь народный гнев, спасая тем самым положение.
Фальери и впрямь не ошибся, именно Микаэле Стено, позорно изгнанный в начале праздника с галереи, сбегал домой, где сочинил те издевательские стишки, и, когда все внимание было обращено на фейерверк, он тихонько подкрался к трону дожа и, прикрепив листок, удалился, никем не замеченный. Коварный Стено верно рассчитал удар — его стишки чувствительнейшим образом задевали обоих супругов, ибо были глубоко оскорбительны как для дожа, так и для его жены.
Микаэле Стено без лишних препирательств, нимало не смущаясь, признался в содеянном, но обвинил во всем дожа, который, мол, первым нанес ему сильнейшее оскорбление. Синьория давно уже была недовольна своим правителем, который, вместо того чтобы оправдать надежды и чаяния подданных, ежедневно и ежечасно доказывал своими поступками, что воинственный и гневливый дух, живущий в холодном сердце дряхлеющего старика, подобен всего лишь фейерверку, который с оглушительным шумом и треском взрывается, не причинив никакого вреда, рассыпается черными, мертвыми хлопьями и бесследно исчезает. К тому же его женитьба на молоденькой красавице (ведь всем было известно, что союз этот был заключен сразу же после избрания его дожем), его бешеная ревность, все это разом изменило к нему отношение — в глазах многих из воина-победителя старик Фальери превратился в обыкновенного vecchio Pantalone[23].
Все перечисленные обстоятельства привели к тому, что синьория, лелея коварные планы отмщения, склонялась скорее к тому, чтобы оправдать Микаэле Стено, нежели оскорбленного до глубины души правителя. Совет Десяти[24] передал дело в Совет Сорока[25], куда между прочим входил и сам Стено. Микаэле Стено и без того уже изрядно натерпелся, и потому ссылка на месяц будет достаточной мерой наказания за содеянное — таково было вынесенное заключение, чрезвычайно разозлившее старика Фальери, и так уже сердитого на синьорию, которая, вместо того чтобы защищать главу государства, позволила себе вынести приговор, более подходивший к мелким проступкам, нежели к тяжким преступлениям, каковое было совершено по отношению к нему.
В жизни часто бывает, что влюбленному достаточно одного-единственного лучика счастья, озаряющего мягким золотым сиянием все его существо, чтобы, отрешившись от земных радостей, погрузиться в сладостные мечтания и надолго забыть обо всем на свете; так и Антонио никак не мог прийти в себя после того, как пережил мгновение невыразимого восторга, и сердце его сжималось от томительной тоски. Старуха выбранила его порядком за отчаянную выходку, и еще несколько дней не могла успокоиться — нее ворчала, приговаривала, дескать, к чему эти ненужные затеи. Но вот однажды все переменилось: она пришла домой, подпрыгивая и пританцовывая, почти забыв про свою клюку. Такое уже случалось с ней, и всякий раз казалось, будто, ведет ее какая-то неведомая сила. Она вся сотрясалась от смеха; не обращая внимания на вопросы, которыми засыпал ее Антонио, она развела в камине небольшой огонь, поставила на него чугунную плошку и, прибавляя из разных склянок по щепотке неведомых трав, принялась варить какую-то мазь; после чего она переложила снадобье в маленькую баночку и заковыляла прочь, продолжая громко хихикать и хохотать. Лишь поздним вечером старуха вернулась домой; кряхтя и кашляя, она с неимоверным трудом уселась в кресло и только тогда, будто почувствовав необычайное облегчение после напряженных трудов, наконец вымолвила:
— Тонино, сыночек мой, ну-ка угадай, где я была? Откуда я пришла? Ну-ка попробуй! Ну? Откуда?
Антонио глядел на нее во все глаза, и в душе его шевельнулось предчувствие.
— Да, да, — проскрипела хихикая старуха, — от милой голубки, красавицы Аннунциаты!
— Что ты такое плетешь, старая! Не морочь мне голову! — закричал Антонио.
— Ну зачем же так, — продолжала старуха, — я ведь только о тебе и думаю! Сегодня утром я как раз отправилась на рынок, тот, что на площади Сан-Марко, посмотреть, не попадутся ли хорошие фрукты, а повсюду только и разговоров, что о несчастье, которое приключилось с супругою дожа. Я все хотела выспросить — у одного, другого, никто ничего толком не знает, только один парень — здоровенный такой краснорожий верзила — стоял, подпирая колонну, и от скуки жевал лимон. Так вот, он-то и объяснил мне.
— Да, чего там, право, — говорит, — пошалил слегка скорпиончик, решил испробовать свои молодые зубки, да и хватил маленько мизинчик, вот и попало немножко чего-то в кровь, теперь уж мой хозяин, синьор Джованни Баседжо, разберется что к чему, он сейчас как раз наверху, уж он-то оттяпает и пальчик, и нежную ручку в придачу.
Только парень молвил это, как наверху послышался страшный шум и крик и какой-то синьор, ну прямо этакая крошка, кубарем скатился по лестнице, — видно, дали ему пинка хорошего, вот и полетел он как мячик прямо под ноги прохожим, истошно вопя и причитая. Вокруг собрался народ, хохот стоял неимоверный — уж больно весело было смотреть, как старается изо всех сил этот карлик, потешно болтает ножками, безуспешно пытаясь подняться. Но тут подскочил к нему тот краснорожий парень, его слуга, сгреб в охапку своего докторишку, который продолжал голосить во всю глотку, взвалил его на плечи и помчался со всех ног прямо к пристани, там спрыгнул в лодку и был таков. Я сразу же смекнула, в чем тут дело, — это, верно, дож, увидев, как синьор Баседжо подступил с острым ножом к прелестной ручке догарессы, велел вытолкать взашей злополучного лекаря. Но это еще не все — я тут же сообразила, что делать, и вмиг помчалась домой, приготовила мазь и сейчас же обратно, во дворец; и вот стою я на ступеньках широченной лестницы, держу мою баночку в руке, а в это самое время вниз спускается старик Фальери, приметил меня да как набросится на меня с кулаками, что тебе, мол, здесь надо, мерзкая старуха?! Ну, а я — присела почти до самой земли, едва на ногах удержалась — и сказала ему, что, дескать, есть у меня лекарство одно, от которого его жена вмиг поправится. Как услышал это старый дож, уставился на меня так дико страшным взором и все поглаживал свою седую бороду, будто размышляя, как быть, а потом, ни слова не говоря, схватил меня и потащил чуть не волоком наверх, так и тащил до самых покоев догарессы, я уж совсем из сил выбилась, а на самом пороге едва не растянулась. Тонино, ты не поверишь мне — тут я увидела ее. Бедная девочка! Мертвенно-бледная, она лежала, откинувшись на высоких подушках, вздыхая и слегка постанывая от боли, побелевшие губы ее шептали: «Ах, я чувствую, как яд растекается по моим жилам!» Но я тут же принялась за дело, сняла этот дурацкий пластырь глупого докторишки. О! Силы небесные! Прелестная маленькая ручка — что сталось с ней? — кроваво-красная, вся опухла и затекла! Но ничего, ничего, я помазала своей мазью, и сразу же жар унялся и боль приутихла. «О, как приятно, как приятно», — прошептала наша голубка. Услышав это, Фальери пришел в необычайное волнение и воскликнул: «Даю тысячу цехинов, старуха, если сможешь спасти мою супругу». С этими словами он вышел из комнаты. Три часа кряду просидела я там, не отпуская маленькую ручку, все гладила ее, успокаивала боль, так что не коре моя красавица погрузилась в легкую дрему. Когда же она очнулась, то боли как не бывало. Я наложила свежую повязку, а она смотрела на меня сияющим взором, исполненным радости. И тогда я сказала: «Вот так, любезная догаресса, ведь и вы однажды спасли одного мальчика.