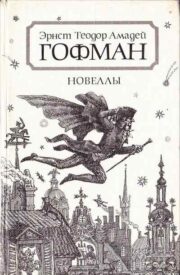— О, я знаю, ты ангел света, ниспосланный мне самим Господом Богом, чтобы уберечь меня от смерти.
Услышав мои слова, это небесное создание протянуло ко мне руки и прошептало чуть слышно:
— Ах, милый мальчик, я не ангел, а просто девочка, обыкновенный ребенок, такой же, как и ты!
Яркий румянец заиграл у нее на щеках. И тогда священный трепет сменился неизъяснимым восторгом, который жарким пламенем опалил все мое существо. Я поднялся, наши руки сплелись в пылком объятии, и губы слились в безмолвном поцелуе — мы рыдали и плакали от какой-то сладкой, томительной, несказанной тоски, что охватила наши сердца! В этот миг мы услышали чей-то голос, который доносился откуда-то издалека:
— Аннунциата! Аннунциата!
— Мне уже пора, мой милый друг, это мама зовет, — так прошептала девочка, и невыразимая боль пронзила меня.
— Ах, как я люблю тебя, — повторял я сквозь рыдания, чувствуя на своих щеках горячие, обжигающие слезы, что струились из глаз девочки.
— Я люблю тебя всей душой, милый мальчик! — воскликнула она, крепко целуя меня на прощанье.
— Аннунциата! — снова послышалось из-за леса, и в то же мгновение девочка скрылась за деревьями.
— Вот видишь, Маргарета, именно тогда в моем сердце зажглась та искра любви, которая продолжает гореть во мне, вспыхивая то и дело ярким пламенем! Несколько дней спустя после этого случая меня выгнали из дому. Я не мог говорить ни о чем другом, кроме как о явившемся мне ангеле, чей нежный голос мне чудился повсюду — и в шепоте деревьев, и в журчанье ручейков, и в таинственном шуме морского прибоя. Я прожужжал все уши старику — помнишь, я рассказывал, его еще прозвали Папаша Сизый Нос, — и он объяснил мне, что девочка, по всей вероятности, дочка Неноло — Аннунциата, которая гостила здесь вместе со своей матерью и уехала на следующий же день. — О, матушка моя Маргарета! Святые небеса! Аннунциата, та самая Аннунциата, она-то и стала супругою дожа!
С этими словами Антонио, не в силах скрыть невыразимую боль, упал на подушки, содрогаясь от неудержимых рыданий.
— Тонино, мой мальчик, — молвила старуха. — Не печалься! Возьми себя в руки, будь мужественным и попробуй побороть эти страдания, на которые так глупо обрекаешь себя. Разве ж это дело, сразу впадать в отчаянье от любовных мук? Для кого же, как не для влюбленного, сияет золотой цветок надежды?! Ведь кто знает, что готовит нам грядущий день, и, может статься, сон еще станет явью. Ведь даже воздушные замки порой обретают на земле вполне зримые очертания. Послушай, Тонино, по-твоему, мои слова мало чего стоят, но чует мое сердце, ох, чует, да и по другим знакам выходит, что все переменится, я вижу, как ослепительное знамя любви поднимается над морем и радостно плещется на ветру. Терпение, сынок, только терпение! — так пыталась старуха утешить бедного Антонио, и действительно ее слова звучали как нежнейшая музыка и потому юноша не отпускал ее от себя ни на минуту.
Так нищенка с паперти францисканской церкви превратилась в почтенную хозяйку синьора Антонио, которая, нарядившись подобающим образом, каждое утро отправлялась на рыночную площадь за покупками для своего господина.
И вот настал день Giovedi grasso: на этот раз праздник был задуман с особой пышностью. Посреди небольшой площади Сан-Марко был сооружен высокий помост, предназначенный для особого, никогда доселе не виданного фейерверка, который взялся устроить некий грек, владеющий в совершенстве этим сложным искусством. Когда наступил вечер, на галерею вышел сам дож в сопровождении своей красавицы жены; сияя от переполнявшего его счастья, наслаждаясь блеском собственного величия, старик Фальери с довольной миной посматривал по сторонам, явно желая прочесть в глазах своих подданных выражение восторга и восхищения. Дож уже собрался было изойти на трон, но в этот самый момент приметил Микаэле Стено, который как ни в чем не бывало стоял тут же на галерее, да еще в таком месте, откуда он сам мог беспрепятственно смотреть на догарессу, не теряя ее из виду, но и она, в свою очередь, не могла бы не заметить его. Разгоряченный обуявшим его гневом и бешеной ревностью, Фальери приказал громовым голосом немедля вывести Стено с галереи. Микаэле Стено готов был уже кинуться па старого дожа с кулаками, но в это время подоспела стража и заставила его покинуть галерею, на что он, хотя и повиновался приказу, разразился безудержными проклятьями, грозя жестоко отомстить, после чего удалился, скрежеща зубами от ярости.
Тем временем толпа оттеснила Антонио, и он, едва оправившийся от удара, поразившего его при виде возлюбленной, побрел одинокий и всеми покинутый по пустынному морскому берегу, и его истерзанное сердце разрывалось на части от нестерпимых мук. Он уже подумывал о том, не лучше ли будет просто броситься в ледяные волны, что потушат пожар сердца, чем умирать медленной смертью от безысходных страданий. Еще немного, и он бы кинулся в море, но в ту минуту, когда, готовый к прыжку, спустился уже на последнюю ступеньку лестницы, что вела к воде, кто-то окликнул с лодки, как раз проплывавшей мимо:
— Эй! Добрый вечер, синьор Антонио!
В отблесках света дворцовых огней Антонио узнал весельчака Пьетро, одного из своих прежних товарищей; теперь же он, нарядно одетый, стоял в лодке: на голове — лихо заломленный берет, украшенный блестками и перьями, новенькая куртка полосатой ткани, расшитая яркими лентами, в руке он держал огромный букет красивых душистых цветов.
— Добрый вечер, Пьетро! — отвечал Антонио. — Что за важную птицу ты собираешься катать по морю, я смотрю, ты вырядился прямо как на бал.
— Еще лучше, синьор Антонио! — воскликнул Пьетро и при этом подпрыгнул от радости так, что лодка сильно закачалась. — Дело в том, что сегодня я намерен заработать целых три цехина, я должен добраться до самой верхушки башни Святого Марка, а потом — вниз и преподнести этот букет прекрасной догарессе.
— Уж не собираешься ли ты, приятель, взяться за тот самый трюк, на котором так легко свернуть себе шею? — спросил Антонио.
— Это правда, шею тут свернуть себе немудрено, да еще сегодня придумали новую затею — лететь придется прямо через огонь, — отвечал ему Пьетро, и по всему было видно, что ему как-то не по себе. — Правда, грек утверждает, — продолжал он, — что бояться нечего, это совсем не опасно, от такого огня ничего загореться не может, но — чем черт не шутит!
Антонио тем временем спустился к нему в лодку и только тогда заметил, что Пьетро стоит перед каким-то механизмом, держась за канат, конец которого уходил куда-то под воду. Другие канаты, посредством которых машина приводится в движение, терялись где-то в темноте.
— Послушай, Пьетро! — молвил Антонио, немного помолчав. — Послушай, приятель! Если бы тебе сегодня представилась возможность заработать десять цехинов, не рискуя своей молодой жизнью, ты бы согласился?
— А то нет, — расхохотался во все горло Пьетро.
— Ну, что ж, — продолжал Антонио, — вот тебе десять цехинов, давай поменяемся платьями, и я пойду вместо тебя. Сделай одолжение, любезный друг!
Взяв деньги, Пьетро как будто прикинул их вес на ладони и, поразмыслив немного, стоит ли соглашаться, сказал на это:
— Вы очень добры ко мне, синьор Антонио, называя меня, бедолагу, своим приятелем, да к тому же еще и щедры безмерно! Ради денег я бы, пожалуй, согласился, но ведь за то, чтобы преподнести красавице букет и услышать ее прелестный голосок, чего только не сделаешь, можно и жизнью рискнуть. Ну, да ладно. Вам уж уступлю, будь по-вашему!
Они быстро скинули одежды, и едва Антонио успел нарядиться, как Пьетро закричал: «Скорее в машину, уже подали знак!»
И в тот же миг море озарилось светом тысячи огоньков, что взметнулись в воздух, и грохот праздничной пальбы прокатился по всему побережью. Словно вихрь пронесся Антонио по воздуху прямо сквозь огонь праздничного фейерверка — все новые и новые ракеты разрывались в небе и гасли с легким шипением — мгновение, и вот он уже опустился на галерею прямо перед супругою дожа. — Она поднялась и ступила к нему навстречу; она была так близко, что он почувствовал ее дыхание; он протянул ей букет, но в этот самый момент невыразимого, почти неземного счастья жгучая боль безнадежной любви будто раскаленной иглой пронзила его сердце. Не помня себя, охваченный каким-то безумием, в котором слились воедино страстное желание, восторг упоения и невыразимая душевная мука, он припал к руке красавицы и, запечатлев пылкий поцелуй, воскликнул голосом, срывающимся от безутешной скорби: