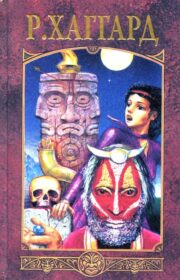Старик Крофт поднял голову, и глаза его засверкали.
— Я ничего не имею возразить против приговора! Если вы намерены совершить убийство, то совершайте его! Я бы мог указать вам на свои седые волосы, на моего убитого слугу, на мой дом, стоивший мне столько трудов и теперь разрушенный вами до основания! Я бы мог напомнить вам, что я всегда был честным гражданином и прожил в мире и согласии с соседями более двадцати лет, в продолжении коих сделал немало доброго многим из тех, которые теперь так хладнокровно собираются лишить меня жизни. Но всего этого перечислять вам я не стану. Расстреляйте меня, если желаете, и пусть моя кровь падет на ваши головы. Еще утром я бы, пожалуй, сказал, что мое отечество заступится за меня. Теперь сказать этого я уже не могу, ибо Англия нас бесстыдно покинула на произвол судьбы, и у меня больше нет родины. А потому отомстит за меня Тот, Который не оставляет безнаказанным ни одного злодеяния, хоть иногда и медлит со своей небесной карой. Вас я не боюсь. Убейте меня, если хотите. Я потерял все — честь, дом, родину. Почему же мне не потерять и саму жизнь?
Фрэнк Мюллер вперил свой холодный взгляд в взволнованное лицо старика, и на его губах появилась злобная торжествующая улыбка.
— Обвиняемый, по долгу присяги и во имя Бога и республики я приговариваю вас к расстрелу завтра же на заре, и да простит вам Всевышний ваши прегрешения и помилует вашу душу! Отведите преступника под стражу и как можно скорее отправьте гонца в покинутый жителями дом, расположенный на горе на недалеком расстоянии от Ваккерструма, тот самый, в котором некогда жил тот самый рыжебородый англичанин. Там посланный найдет священника, которого пусть захватит с собой, так как необходимо напутствовать осужденного перед смертью. Вместе с тем велите двум бурам вырыть могилу для старика позади дома.
К Крофту приблизились часовые, положили руки ему на плечи, после чего старик повернулся к выходу и вместе с ними удалился, не говоря ни слова. Бесси с болью в сердце следила за происходящим через отверстие в стене до тех пор, пока обрамленная седыми волосами голова и величественная, но согбенная фигура старца не скрылась из виду. Затем, измученная физически и потрясенная до глубины души всем виденным и слышанным в продолжении дня, она без чувств опустилась на пол.
Между тем Мюллер писал смертный приговор на листе, вырванном из записной книжки. В конце он оставил свободное место для своей подписи, которую решил поставить впоследствии, чтобы прежде всего сделать ответственными за убийство всех участвовавших в этой пародии на суд, а потом уже и самого себя. Буры вообще весьма простодушны, но на этот раз не так легко поддались на уловку, вследствие чего и произошла следующая поучительная сцена. Каждый из присутствующих на словах дал согласие на казнь старика, но ни один не пожелал подтвердить своего согласия письменно. Как только буры поняли мысль своего грозного начальника, то, точно сговорившись, стали расходиться под тем предлогом, что у каждого из них накопилось множество спешных дел. Началось что-то вроде всеобщего бегства. Некоторые уже успели спрыгнуть с повозки и под предводительством Ханса направились к выходу, как вдруг Фрэнк Мюллер, поняв их намерения, закричал:
— Стойте! Никто не смеет уходить, пока не подпишет смертный приговор!
Буры остановились и с невинным выражением лица принялись разговаривать между собой.
— Ханс Кетце, подойдите сюда и подпишите, — велел Мюллер.
Злосчастный бур с плохо скрываемым чувством досады поспешил исполнить приказание, не переставая втихомолку бранить этого дьявола Фрэнка Мюллера.
Затем Мюллер подозвал второго, который тут же принялся извиняться, говоря, что на его образование смолоду не было обращено должного внимания, вследствие чего он совсем не умеет писать. Эта оговорка не принесла ему, однако, существенной пользы, ибо Фрэнк Мюллер сам написал на документе имя бура, заставив его лишь сделать собственноручную отметку. После этого больше уже не возникало никаких недоразумений, и вскоре вся оборотная сторона документа покрылась всевозможными подписями.
По уходе буров Фрэнк Мюллер остался один и, сидя на скамейке, о чем-то размышлял, держа в одной руке исписанный лист бумаги, другой же поглаживая бороду. Немного погодя он перестал ее гладить и в продолжение нескольких минут сидел молча и не двигаясь, точно каменное изваяние. К этому времени солнце, пройдя дневной путь скрылось за горой. Наступили сумерки, а сгустившиеся вокруг Мюллера тени окутали его каким-то туманом. Он сделался похож на князя тьмы, ибо зло также имеет своих князей, отмечает их особой печатью и венчает своей особой диадемой. Улыбка торжества играла на его злобно-прекрасном челе, какой-то особенный блеск сверкал в его холодных очах и отливал в золотистой бороде. В эту минуту он был подобен своему великому наставнику — дьяволу.
Вдруг он очнулся.
— Она моя! — воскликнул он. — Она попала в тиски! Она не вырвется из них! Она не даст умереть старику! Эти дураки сослужили мне знатную службу. С ними так же легко справляться, как со струнами на скрипке, а я не плохой музыкант! Ну, а теперь мы подходим к финалу песни.
Глава XXX
Нам надо расстаться, Джон
Спасшиеся таким чудом путники некоторое время стояли в благоговейном молчании и взирали на посинелые и обезображенные тела пораженных молнией буров. Затем оба направились к растущему на недалеком расстоянии дереву, чтобы привязать к нему лошадей. Последнее, однако, стоило Джону немалых трудов, ибо подозрительные животные все время вздрагивали и храпели от страха, никак не решаясь перешагнуть через трупы. Между тем Джесс вынула из корзины несколько яиц, сваренных вкрутую, и удалилась, предупредив Джона, что намерена снять платье и разложить его для просушки на солнце, пока сама займется завтраком, причем и ему советовала последовать ее примеру. Спрятавшись за скалой, она принялась приводить в исполнение свое намерение, что оказалось далеко не легкой задачей, ибо платье прилипло к телу и стаскивалось с большим трудом. Отдельные части своей одежды она разостлала на плоских прибрежных камнях, достаточно нагревшихся от солнечных лучей. Подойдя к наполненному водой природному бассейну на берегу реки, она смыла с себя песок и ил, а затем, усевшись на камни в тени, падавшей от скалы, принялась за скромную трапезу, не переставая все время размышлять о своем горестном положении. На сердце у нее было очень тяжело, и она искренне сожалела, что не лежит теперь на дне реки, протекавшей перед ней. Она рассчитывала умереть и не умерла, и теперь, быть может, ей суждено прожить еще долгие годы, скрывая в глубине сердца свой позор и горе. Она чувствовала то же, что должен чувствовать человек, видевший себя во сне парящим на крыльях ангелов и вдруг проснувшийся от падения на пол. Порывы великодушия, неземная любовь, благороднейшие помыслы и стремления, проснувшиеся в ней под влиянием неминуемой гибели, отныне представляются не более чем вспышками самой обыденной и пошлой страсти. Но это еще не все. Она сама не только оказалась неверной по отношению к Бесси, но и жениха ее заставила нарушить данное слово. Она его соблазнила, и он пал, а теперь он так же гадок, как и она. Смерть могла бы служить ей оправданием, она ни за что не высказала бы своих чувств, если бы знала, что останется жива. Но смерть ее обманула, и теперь она ясно видит, до какой степени были неуместны чувства и мысли, волновавшие ее душу в то время, как меч висел над ее головой.
Их отношения зашли слишком далеко, их следует прекратить раз И навсегда, хоть это и разобьет его и ее сердце. Обстоятельства переменились, и воспоминание о тех минутах, когда среди бушующих волн, на алтаре смерти, они клялись вечной верности и любви друг другу, должно остаться не более чем Воспоминанием. Оно возникло на их жизненном пути, как прекрасный, но вместе с тем тяжелый сон, и, как сновидение, должно исчезнуть.
А между тем это все же не сновидение, а горькая действительность, если только можно назвать действительностью самую ее жизнь — загадку, постичь которую было так же трудно, как разглядеть солнечный луч во время тумана. Нет, это не сновидение, это только исчезнувшая в прошедшем часть действительной жизни, это факт, который не может быть признан несуществующим, который невозможно в чем-либо изменить. И вот отныне под видом равнодушия и забвения она должна скрывать в себе чувство, которому никогда не суждено в ней умереть. Это было ей до горечи тяжело! И что только она должна чувствовать, расставаясь теперь с ним и зная наверное, что он вскоре женится на ее родной сестре — женщине, имеющей на него больше прав, нежели она! Каково ей думать о том, что нежная привязанность Бесси постепенно займет ее место в сердце Джона, что постоянная любовь сестры заставит понемногу забыть о ее более глубокой страсти, а вскоре и навеки изгонит из его памяти даже самое воспоминание о ней!