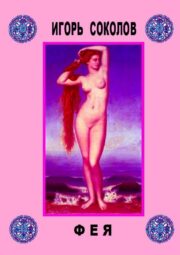Самое интересное, что она никогда ни в чем не признавалась, как видно, боясь за свое место…
Арнольд Давыдович уставится на нее своим серьезным научным взглядом, а толку никакого…
– Что за скотская привычка, Маша, рвать книги?!
– Да, не рвала я, Арнольд Давыдович! – ответит она, нахально мигая накрашенными глазками…
Сам Арнольд Давыдович покраснеет и тут же выйдет из кабинета… Ох, и любил же он ее… Как только в ванную она зайдет, Арнольд Давыдович тут же на цьшочках, бегом к дырке в стене, прильнет, застынет как истукан и почти не дышит, совсем как неживой…
Или ночью зайдет к ней в комнату со свечкой в руке и спросит: «Маша, а вы случайно Енгения Онегина не читали?!»
– Это Пушкина что ли?! – переспросит спросонья Маша…
– Его, его родного, – обрадуется Арнольд Давыдович.
– Да нет, не читала, – зевнет Маша и повернется на другой бок, да тут же уснет, а бедный Арнольд Давыдович все только и ходит кругами возле ее постели, томно вэдыхая, пока уже вре мя не приближалось к самому рассвету…
Такое, правда, бывало не всегда, только в особые минуты совершенно беспричинной и непонятной тоски профессора Цикенбаума, когда, начитавшись до одури каких-нибудь философских статей, он вдруг начинал ходить босиком подряд по всем комна там и бормотать себе под нос какие-то странные выражения:
– Дурак, не купил себе валерьянки! Дурак, давно бы уже я уснул! Дурак, что вырвал стихи из тетрадки, а ее не лобызнул! Так длились эти лунатические походы профессора Цикенбаума, пока однажды ночью Маша сама не пришла к профессору и не разбудила его:
– Эй, дружище, иди-ка лучше ко мне, чего тебе здесь-то валяться да мерзнуть одному!
Профессор проснулся, присел на кровати в своей длинной ночной рубашке, все сразу понял, ахнул и, дрожа всем телом, встал и кинулся к ней.
Так вот и стал он, быть может, даже к собственному ужасу, мужем какой-то неизвестной деревенской девчонки, такой вот знаменитый профессор Цикенбаум…
Райская птичка
«Ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут жениться, ни замуж выходить, но будут как Ангелы на небесах».
Рьгжая Верка с отрочества гулящая. Быстро отдается всякому желающему.
Главное, чтоб водка была да курева побольше… Жизнь для Верки – бесполезное занятие… Мужчин всегда в изобилии, питья для забытья тоже, эх, была бы только рожа хоть на кого-то похожа…
А женщин Верка не любит, вот, болтушки, никакого покоя от них, да еще ропщут, что не все мужики хорошие им принадлежат, что мужики, мол, теперь одни эгоисты, а сами только и ждут, как бы им себя подороже продать…
Эх, разве этих кобелей удержишь от наших тел, но и обижаться-то грех, ведь мрут-то они раньше нашего…
Так и живет Верка, ветер в поле, ветер в голове… А совсем недавно повадился к ней Матвеич, здоровенный такой мужик, издали посмотришь, ну, точно бык какой на тебя прет…
Челюсть широкая, плечи квадратные, как у Шварцнеггера, ну, как такого не пожелать, хочешь стоя, хочешь сидя, в любом положении удовольствие получить можно…
А в последнее время что-то привязался к ней Матвеич, как бес окаянный…
– Не иначе, девка, не распробовал он тебя, – заметила бабка Маня, – видно, разжевать тебя целиком собирается…
И страшно вдруг стало захмелевшей с водки Верке от слов этих мудренных бабки Мани, родная бабка в жизни не соврет!
И вдруг почудилось ей, что Матвеич и на самом-то деле съесть ее, бедную гулёну, собирается…
И вот наступила темная ночка, Матвеич по обыкновению своему опять полез к ней в спальню через окно, да только стал сымать с себя портки, как тут же охнул, оседая…
Оглядывается назад, а Верка с топором стоит, а по околышку кровь тихонько каплет, а у самой Верки зуб на зуб не попадает…
– Что ж ты, стерва, учудила-то?! – воскликнул в сердцах Матвеич и сразу помер.
А Верку вскоре в лагеря направили… дали ей всего три года за мужика-то, потому что, как выяснилось, до этого ее Матвеич снасиловал да триппером заразил, ну и соответственно, объяснил ее защитник, что была она очень разобижена на свово Матвеича-то…
А после тюрьмы Верку как подменили, на мужиков теперь не смотрит, ходит в церкву, Богу молится да свечки ставит, а бабке Мане своей говорит:
– Я теперь, баба Маня, как райская птичка жить хочу, токо шоб там, на небесах, и шоб без всяких там мужиков и выпивок…
Эсфирь
стихотворение в прозе
Всякий человек еще с детства мечтал вырваться отсюда…
Священник за обещанное молчание рассказал ему, как она исповедывалась…
В лихолетье над Царством поднимаются химеры…
Она была бела как снег… В пустой церкви трудно бороться с бесом…
Говорят, по звездам можно определять путь…
Кто-то сделал это, она знает, она сама остановила его взглядом и предрекла ему смерть…
Такую далекую и непостижимую, что даже невозможно представить или хотя бы пожелать…
Вместо исповеди – пророчество, вместо раскаянья – грусть…
Он сам хотел сказать ей про это… но рядом с нею испугался сам себя…
Она принадлежала ему всем своим отчаяньем…
Когда он дергал за языки колокола, он мечтал и мог летать по очертаниями крыш… Поцеловав его руки, она заплакала…
Сумасшедшая с распущенной косой возле алтаря…
Ветер резко выл с реки голодным зверем…
Железо на главах ржавеет как купол цветка…
Она невинная, а потому немая… Она молчит, чтоб пронзать своей верой…
Нет, не его, а саму невозможность быть собой…
Шаги как страхи меж икон ложатся в мрак… Собаки лают и кричат вороны…
Можно просто не верить ни во что и стоять, вслушиваясь в ее стоны…
Хуже верить в Бессмертие и знать, что боль никогда не покинет тебя…
Он был безволен отпускать теперь грехи…
О нежности не молят, в нежность просто верят и кидаются в нее с головой…
И создают ее совсем из ничего…
Хрупкая белая женщина опускается перед ним на колени… Он гладит ее рукой и содрогается от плача, он жалеет не себя…
Нет, она не сумасшедшая, она скрылась откуда-то, чтобы здесь с ним ворожить Вечной Тайной…
Прохладные ладони на щеках и ветер, пролетающий сквозь щель…
Она целовала его по-детски наивно…
Ее имя – Эсфирь… Такое же прозрачное и голубое, как в детских снах…
Маленький художник
Ах, милая добрая женщина, ты так хотела родить хорошего и красивого мальчика! Но, увы, в тебе зачали дитя в пьяном угаре, в душном поезде, несущемся на Восток.
Эти несчастные и дикие от собственной неприкаянности люди – мужчины – самцы, чья дурная страсть была лишь мимолетным вожделением…
Стоящие в очереди как нищие за похлебкой у Твоего зияющего лона, они вряд ли думали, что у Тебя от них может родиться даже этот жалкий и никому ненужный шестипалый уродец…
О, как Ты, бедная, выла, как пыталась наложить на себя руки и больше никогда никого не видеть…
Угрюмые и несчастные цветы рождает полночь… Именно в такую глухую полночь Ты выносила из роддома своего ребенка как клеймо и позор пережитого тобою бесчестья…
Как Ты желала его задушить и бросить в ящик с мусором, мимо которого проходила, чтобы потом уже уйти, уехать отсюда и полностью раствориться в любом дальнем крае, но ребенок заплакал, он заголосил как всякая живая Тварь, он жадно просил есть…
И тогда Ты дала ему грудь там, в темноте, на ветру и снова почувствовала это странное ощущение своей Второй Жизни на этой грешной земле…
Именно там и тогда Ты поняла и почувствовала Святость всякой рожденной Жизни, ибо это была часть Тебя самой, и если бы ты убила эту часть – этого ребенка, то Ты бы убила прежде всего Себя, Ты бы убила себя как Мать…
И ты стала жить, ты стала надеяться на то, что Бог не оставит Тебя… Ты каждый день зажигала в храме свечу и молила Бога о счастье ребенка…
Это было Время безропотной Веры и долготерпения, Время, когда все люди на что-то надеются…
Бедная, разве Ты знала, что это еще один шаг на пути в Безмолвие…
Лишь спустя несколько дней Ты обнаружила, что Твой сын глухонемой и что его шестипалые ручки совершенно неподвижны – мертвы, как и левая часть половины лица и всего остального тела…
В остальном же это был очень умный и подвижный ребенок… Таких, конечно, жалеют за их прирожденную беззащитность и беспомощность…