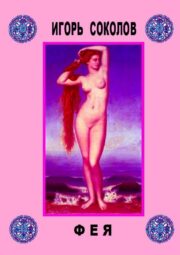– А Вечная Истина и есть Ложь, – подтвердил ангел и подвел меня к младенцу в гробике…
Две свечи освещали спящее личико младенца и лишь два черных круга под глазами говорили о его смерти…
– Он мертв, – спросил я…
– Да, за него сейчас молятся, – ответил ангел, – у него было самое чистое сердце и его разум еще не успел ослепнуть и заблудиться…
Ангел три раза коснулся младенца крыльями и мальчик привстал…
Два черных круга исчезли и щечки его порозовели…
– Что тебе снилось, – спросил его ангел…
– Луна и звезды, – полусонным шепотом ответил мальчик…
– Это хорошо, – ангел приподнял мальчика из его гробика и я увидел, что у него тоже вырастают за спиной два белых крыла…
И они взяли меня за руки и поднялись вместе со мной над кладбищем…
Болезненный свет луны едва обозначил смутные очертания едва шевелящихся мертвецов, и деву Марию собравшую все кресты воедино в один бесконечно растущий над унылой землею крест…
– Почему они не ангелы, – спросил я у своих спутников, глядя на шевелящихся в земле мертвецов…
– Они бы и хотели, да не могут, – прошептал мальчик-ангел…
– В чем же они виноваты, – спросил я…
– Ни в чем, – улыбнулся мне сын-ангел, – они нужны для равновесия, ибо каждой птице нужен червь…
– Они ползают, чтобы вы летали, – вдруг озарило меня и ангелы опустили меня в самую гущу скорбно поющего кладбища…
Грустные мертвецы водили вокруг меня хороводы и плакали…
Их безнадежный плач входил в самую сердцевину моего озябшего дыхания…
И собрал я в себе все согрешения этого окаянного смертного мира и пропитался ими до своего исчезновения…
Земля и небо срослись с отверстою бездной…
И дерзновенные дочери Вавилона отняли у меня уста и грешными змеями вползли в глубины моего умирающего тела…
И истощили меня своим адским лобзанием…
И разжегся во мне сатанинский огонь…
– Вот она, пища для моей плоти, вот оно, сотворение новой смерти на земле…
Ум покинул меня, и плоть моя уже потеряла свои очертания, и только одна капелька моего греховного семени в одной из Вавилонских девы сохранила для других мой прежний внутренний облик для нового моего исчезновения…
Так, грех бросил меня в бездну и он же, грех уберег от нее, потому что сам Бог был спрятан во мне, но его никто кроме меня не видел…
Так я умер здесь и заново родился…
И понял я, что мир позади меня несовершенен, а впереди еще не завершен…
И никогда не будет в нем ни конца, ни начала…
И весь мой внутренний облик полный постоянного согрешения и исчезновения доказывал мне, что я опять ни здесь и не там, а в Ином, которого нет нигде, и все же оно есть…
Феерия
«Узри в блохе, что мирно лънет к стене,
В сколь малом ты отказываешъ мне.
Кровь поровну пила она из нас:
Твоя с моей в ней смешаны сейчас».
В душе была обычная тоска, и я нисколько не сомневался в том, что вечером мне все же удастся напиться, прежде чем где-нибудь повеситься, а пока я чертил на работе графики повышения зарплаты и строил немного замысловатые рожи Лизке, Лизка посмеивалась и охотно целовала, то есть лизала, облизывала мой нос.
Ее косматая, временами летящая в воздух шерсть, как всегда готовилась к зимней спячке. Лил дождь, и очень хотелось хотя бы немножечко повыть.
Товарищ Светов сомневался в моей разумности и поэтому часто заходил проверять графики.
Он долго их вертел, что-то неопределенно мычал, а после тыкал меня носом в какую-нибудь кривую загогулину, указывая на чрезмерную слабость выбранного мной цвета, и действительно, я их рисовал на компьютере только серым, иногда желтым цветом, потому что мне казалось, что эти цвета выражают собой всю бессмысленность нашего существования.
Потом товарищ Светов уходил, и я, предчувствуя, что он появится не раньше, чем через полчаса, звонил Тимофею и разговаривал с ним, пытаясь докопаться до его туманного сознания…
Тимофей всеми днями был пьян и нигде не работал, и вообще никто вокруг не знал, на что он живет, а уж тем более пьет, когда все так дорого…
Узнал я его случайно, когда он занимал у меня сотню…
Когда я ему дал, то Тимофей зарыдал от счастья и попросил меня как следует напиться, что мы и сделали…
Впрочем, мы так с ним набрались, что нас быстро забрали, т. е. сволокли в очень неплохой частный вытрезвитель, что-то вроде санатория для бывших партийный функционеров или обанкротившихся олигархов.
С тех пор я звонил ему каждый день, завидуя его непорабощенной испитости, от которой веяло всеобщим разложением нашего необъятного государства…
– Государство разлагается, как мы, – весело вещал Тимофей, быстро переходя на нечленораздельное бульканье, иногда расщепляющее меня на атомы.
– Тимофей, кричал я, захлебываясь от восторга, – ты расщепляешь меня на атомы.
– Ага, гы-гы, буль-буль, – шебуршало в трубке, и только Лизка, утыкаясь носом в мою шею, уводила меня от бездоказательных ощущений…
– Уф, Лизка, – шептал я, чеша изо всех сил ее лоснящийся вихрь волос.
Обычно в такие минуты она забрасывала ляжки на стол и, дрожа всем телом, предлагала себя, припадая в порыве страсти к моему истерзанному рабочей спячкой пиджаку…
Тогда я обнимал ее, клялся в любви до гроба, расшвыривал графики повышения зарплаты и стонал о своей философской доле.
Товарищ Светов заставал меня в самых необычных позах с Лизкой и, сердито помаргивая глазами, уходил дальше, теряясь в сумраке грозящего развалиться на глазах здания…
– Эх, Лизка, – пришептывал я, собирая с пола разбросанные графики, – недолго же мы здесь пробудем, если сам начальник отрицает наше с тобой существование…
Была мертвенная середина дня, когда я от психического расстройства уткнулся в пыльный томик Канта, а Лизка просто задремала, слегла прихрапывая к моему неоплатоническому удовольствию…
Кант, по моему самочувствию, был еще более сердит, чем товарищ Светов, если называл всех людей вещами, да еще которые все время находятся в себе, чему я никак не мог поверить, во всяком случае, если даже я повешусь, то Лизка все равно родит какого-нибудь щенка, и то, что он будет такой же самец, как и я, я нисколько не сомневался…
Уж если вещи сношаются, то в себе они быть не могут, так что уважаемый философ был чертовски одинокий, и, по-видимому, мало интересовался устройством своего тела…
Мои мысли прервал приход Сепова, как и Кант, мало занимающийся своим телом, Сепов часто находился в состоянии чрезвычайного транса, что, однако, не мешало ему также чертить какие-то графики и таблицы…
Правда, сидел он в другом конце нашего безумного учреждения и приходил только в самых исключительных случаях, когда ему было особенно скучно…
– Тебе не кажется, – спросил беспокойно Сепов, – что люди вымирают от собственных же мерзостей?
– Ну и что? – спросил я, поглядывая на спящую Лизку.
– Как ну и что?! Надо же что-то делать, – Сепов стал как-то странно озираться, вытирая рукавом льющийся со лба пот.
– Ты что, предлагаешь всех переделать?!
– Конечно, нет, просто я хочу измерить степень маразма, в какое впало все наше человечество, – Сепов поднял вверх свой указательный палец.
– И каким же образом ты хочешь измерить эту степень?
– Это секрет, – Сепов прищурился и только сейчас обратил внимание на Лизку, все еще прихрапывающую на диване.
– А что это за женщина у тебя спит?!
– И сам не знаю, – развел я руками, делая озабоченное лицо.
– Как же так, – забеспокоился Сепов, как же ты объяснишь товарищу Светову нахождение в твоем кабинете посторонней женщины?
– Товарищ Светов уже застал нас в одном интересном положении, так что объяснять ему что-либо уже отпала всякая необходимость.
– Ну, как же так, – Сепов еще больше заволновался, – тебя же уволят с работы, и не просто уволят, а с позором.
– Но я же выполняю свою работу, и, кажется, на меня никто пока еще не обижался.
– А Светов?
– А Светов был без свидетелей, к тому же один в поле не воин.
Сепов задумчиво прошелся около Лизки, почесал затылок и сказал: «А неплохая женщина, только худая немного».
– Для кого худая, а для кого толстая, – сказала Лизка, вставая с дивана.
– Проснулась, – Сепов испугался и выбежал из кабинета.