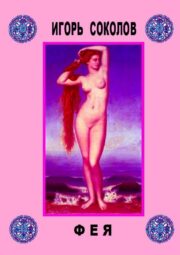Уходила она уже под утро, тихо, на цыпочках, она проскальзывала приоткрытую дверь, словно мышь сквозь замочную скважину.
И мама потом удивлялась: «Почему дверь не заперли?»
Однако это не совсем, правда, отчасти это моя фантазия, а вместе с ней и мое безутешное второе «Я», которое все еще пытается вызвать меня на откровенный разговор. Опять раздвоение! Опять я томлюсь, как грешница пред блудом!
Реальность и фантазия, как России я заграница…
В одном Космосе существует две разны линии горизонта, два совсем непохожих одного и того ж, человека.
Отвергавших друг друга ради смысла, которого, увы, здесь не найти!
«Конечно, за границей все как-то тихо, спокойно, сытно и вкусно, и вообще, как-то благополучно. А вот в России все как-то грязно, шумно, вульгарно, и вообще как-то скверно! Однако, господа, я живу в России, и мне здесь хорошо!
Хорошо, потому что скверно! Ведь абсолютно хорошо бывает только идиотам и то не всем, – как бы сказал Петр Петрович.
Себя я не могу причислить ни к западникам, ни к славянофилам, однако, если говорить о родине, то лучше вспомнить Лукиана: («Похвала Родине») старая это истина, что нет ничего сладостнее отчизны».
В самом деле, разве существует что-либо не только более приятное, но и более священное, более возвышенное, чем родина, «Ведь всему, что люди считают священным и исполненным высокого смысла, научила их родина».
Один мой знакомый, как ни странно, – верующий человек, как-то заметил с горькой усмешкой: «В России священна лишь грязь».
И опять мне вспомнился В. Розанов: «моя душа состоит из грязи, нежности и света».
Казалось бы, – несоединимое, а в нем, как и во всей матушке России, соединялось все, как ангел и дьявол, как плоть и душа…
А потом, в мире ничего чистого, идеального нет, всегда даже возвышенному и прекрасному чувству предшествует какой-то отрицательный опыт…
Возьмем, к примеру, первую брачную ночь – какой муж лишит свою жену девственности, если у него не будет перед этим первого, пусть и отрицательного, т. е. скажем, по-своему грязного опыта?!
Люди все время говорят о какой-то высшей незапятнанной правде, как правило, выспренным, нарочито красивым, а на самом деле вульгарным языком…
Особенно наглядно это проявляется в политике, где слова – обман и покупка одновременно. Простые смертные очень часто покупаются на возвышенную ложь, как девушки-простушки на заверения своего любимого.
Однако жизнь – это всегда игра.
И постепенно созревающий человек очень быстро находит это несовершенство нашего «эго», в его же противоречии не может быть правды без лжи, как любви без обмана и ненависти.
Поэтому все мы невольно духовно и физически насилуем себя этой правдой-ложью, а истина спрятана где-то посередине, ей не дано существовать отдельно, иначе она просто бессмысленной абстракцией, обструкцией – изгнанником в силу собственного предупреждения – неведенья. Когда я пытался соединить философию жизни с литературой, написал то ли рассказ, то ли эссе «Яма и ветер». Это было не слишком удачное произведение…
Часто возникающий в моих снах и мыслях Леллямер, готов был стать главным героем, но не смог, – его все время оттеняла философская глубина странного рассказа «Яма-дыра» – вход в потусторонний мир.
Ветер – философия, постоянно изменяющаяся игра, игра мертвых и живых в прятки с собой».
«Что это?» спросил нетерпеливый Леллямер, – что это, если это могила, то почему она вырыта именно здесь?! Если это яма, то ей здесь совсем не место!
Вопрос Леллямера, поставленный где-то в поле, за городом, есть вопрос существенно принципиальный, т. е. абсолютно пустой, как и все мое произведение.
Отсюда возникает закономерный вопрос: почему же я его тогда написал?!
Ответ: «Кто бы ни был, всегда пытается распознать себя в другом, например, Леллямер в женщинах, а я в друзьях, кто-то в собаках…» («Яма и ветер»).
Я чувствую, что в данном рассказе Леллямер – это мое второе «Я», т. е. подсознательно я тоже хочу быть там, где он, т. е. где угодно и обязательно с женщинами». Т. е. я хочу сказать, что втайне я очень скверный человек, наверное, как и все.
– Справедливость дана только равнодушным, – так говорит Леллямер Ивану Матвеевичу, когда бывает сильно пьян…
– Совершенство разврата есть преимущество старых, а не молодых, – учит по пьяной лавочке Иван Матвеевич Леллямера…
Леллямер тут же ухмыляется и говорит, что старики любят только форму, забывая про содержание (и ветер»).
Иван Матвеевич тоже выступает как мое второе «я» которое, объяснившись, вместе с Леллямером пытается ниспровергнуть мое первое «я» и иную реальность.
Я даю волю им обоим и путешествую вместе с ними по иному миру. В принципе, он такой же, как этот, однако более всего он похож на перевернутое изображение моего реального мира.
«20 век любуется собой по инерции, как робот… Поэтому мне нравится Терминатор», – смеется Леллямер.
– Дурак, Терминатор же машина, – возмущается Иван Матвеевич. («Яма и ветер»).
Я чувствую, что мое второе «Я» спорит, чтобы согреть себя словами и опечалиться собственным смыслом… с всегда пьян, но всегда с женщиной…
Он молод, а поэтому не прав»… – приблизительно так отзывается Иван Матвеевич о своем друге за его спиной («Яма и ветер»)
Меня всегда волновала проблема что-то такое говорить о человеке за его собственной спиной, т. е. я думал: имею ли я право говорить о нем такое кому-то другому, если не могу такого сказать прямо в глаза?
«На мой взгляд, метафизика заканчивает свое существование в женщине, потому что она и он вместе с ней вышли оттуда, т. е. из нее, из женщины» («Яма и ветер»).
Можно сказать, что я не пишу рассказ, а как бы описываю его и как автор, и как философ, и как критик.
Мое второе «Я» остается неподвластным моему ничтожному рассудку, – почти всегда я не знаю, о чем буду писать, мысли возникают сами, безо всякого разрешения и соответствия с реальностью.
Иначе говоря, вымысел замаливает мои собственные грехи через моих героев. Или я хотел бы думать так, как они, но не могу, а только лишь пытаюсь.
«Впервые я испытал любовь в возрасте 5 лет, – говорит Леллямер, – когда одна девочка саду укусила меня за палец… Палец распух, посинел и болел после три дня, и все три дня я думал только об этой девочке» («Яма и ветер»)
Можно сказать, что рассказ не дописан мной по причине временного отсутствия во мне Вселенной…
Я мучился, ходил из угла в угол, брал в руки и опять швырял тетрадку, но законченности не было, ибо Иван Матвеевич куда – то исчез, а Леллямер просто устал мне передавать мои собственные мысли.
Кроме всего прочего, он как всегда скатился на подлость, стал описывать свои романы с учительницей английского языка, потом с пионервожатой, и я вдруг понял, что он меня просто дурачит, ломает меня своим же небытием.
Тогда я опять привлек Ивана Матвеевича… Иван Матвеевич уже устал слушать улыбающегося без всякого смысла Леллямера, и поэтому сгреб его в охапку, и перекинул через кусты акации, как в прошлый раз.
– Ай-е, дед, ты мне всю печенку зашиб, – застонал Леллямер.
– А ты не матерись! – насупился Иван Матвеевич («Яма и ветер»).
Они опять должны были выпить, я уже писал подобный рассказ, и именно про них. Теперь это было ни к чему, они, конечно, рано или поздно помирятся как два одного и того же человека, но что-то главное опять пропадет.
Недоговоренность и незаконченность, как писал М. Бахтин, есть признак бессмертия. (Души, конечно, а не творения, хотя как знать?!)
Ведь получается, что я тоже пишу без всякого смысла, хотя где-то в глубине он может и существует, но разве это можно как то более полно правдоподобно ощутить-ощупать?!
Однажды меня уже водил за нос один человек. Это был Сан Саныч, человек из моего воображения, следовательно, просто литературный герой. В то время меня как-то очень странно волновала проблема «двойника», уже описанного в литературе Достоевским в фантасмагории «Двойник» и Дафной Дюмморье в романе «Козел отпущения».
Моя повесть «Пребывающий в неизвестности» была попыткой выразить собственного двойника через Смерть как фатум, рок и одновременно через Воскресение.
Сан Саныч пробуждается в собственном гробу и видит, как все над ним плачут, т. е. его уже отпевают и хоронят.
И одновременно он видит среди своих близких и родных своего двойника, который все знает; знает, что юн, Сан Саныч, жив, и все равно притворно плачет, обнимает вдову и при этом строит ему, Сан Санычу, дьявольские рожицы. Именно так начинается эта повесть.