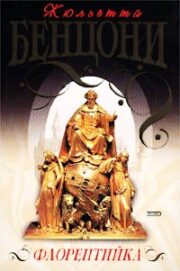В это время из часовни начали выходить монахини. Фьора различила за окном их неслышные шаги, до нее донесся шепот: всех интересовало, почему мать-настоятельница не присутствовала на вечерней молитве. Потом все стихло. Только время от времени где-то по соседству зло лаяла собака да слышалась перекличка солдат на сторожевом валу.
Фьора заметила, что в ее отсутствие ей принесли ужин: лепешки с сыром, политые соусом. Все уже остыло, но Фьора решила подкрепиться. Лепешки были плохо пропечены, и она съела только хлеб, запив его водой. Несмотря на то, что она целый день ничего не делала, она чувствовала себя совершенно разбитой.
Время текло неумолимо, и сердце Фьоры сжималось при мысли о том, что до испытания осталось всего два дня. Ее жизнь началась в тюрьме. Неужели она должна закончиться тоже в заточении? Фьора подумала о своей матери, о всем том, что ей пришлось перенести. Как же она страдала и душой, и телом! Муки родов она пережила в тюрьме, под надзором безжалостных тюремщиков. Она сознавала, что ее дитя так же, как и она сама, обречено на смерть! Дни и ночи без всякой надежды, когда рука палача уже была поднята над ее головой… Но ее поддерживала любовь. В свой последний час Мария могла взять любимого за руку. А она, Фьора, была как в пустыне… Все было бы иначе, если бы Филипп по-настоящему любил ее, так, как Жан – Жан, в котором ей никак не удавалось представить отца, – любил Марию!
Фьоре так и не удалось помолиться в этот вечер. Господь был так далеко от нее и так к ней безразличен, если он допускал, чтобы над невинной душой нависла опасность незаслуженного проклятия. Он послал по следам своей жертвы двух своих слуг с ужасными дьявольскими лицами… Фьора заснула в слезах.
Наступил следующий день, такой же безрадостный, как и предыдущий. Рано утром пришла новая послушница, убрала миску с нетронутой едой и начала мыть пол в келье. Она не поднимала глаз на Фьору и не отвечала на ее вопросы.
Днем никто к ней не зашел. Ей не принесли еду, и Фьора подумала, что ее решили строго наказать за неповиновение «трибуналу», состоявшему из настоятельницы монастыря и испанского монаха. Она смирилась, только сожалела, что силы ее ослабнут к тому времени, когда пробьет час суда божьего!
Укутавшись в одеяло, Фьора лежала на кровати. С самого утра моросил дождь, сад был весь мокрый, и птицы в нем не пели. Время шло, и на сердце у нее становилось все тяжелее.
Совсем поздно вечером в келью вошла та же послушница, что заходила к Фьоре утром. Она принесла хлеб, воду и большую миску густого супа, вкусно пахнувшего свежими овощами. Фьора немало этому удивилась и еще больше была поражена тем, что послушница с ней заговорила.
– Суп горячий, кушай скорее!
Она сказала это почти дружеским тоном, и сердце Фьоры дрогнуло. Впервые в этих стенах к ней обратились по-человечески.
– Спасибо, – сказала Фьора, улыбнувшись.
В ответ улыбки не последовало, но Фьора не обратила на это внимания. Она набросилась на еду с большим аппетитом, свойственным ее возрасту. Суп был очень вкусный, но Фьора почувствовала в нем что-то странное.
Однако ей не пришлось над этим задуматься, так как, проглотив последнюю ложку, она выронила миску из рук, глаза закрылись, и она впала в глубокий сон…
Глава 8
Вираго
[8]
Фьора открыла глаза в совершенно иной, странной обстановке. Она тотчас снова их закрыла, решив, что все это – сон. Она испытывала боль и тяжесть в голове, сухость во рту, тошноту. Фьора вновь открыла глаза, попыталась сесть, но все вокруг закружилось, и она со стоном упала на подушку. Стараясь не двигаться, она разглядывала все по сторонам.
Комната напоминала ванную, так как Фьора увидела громадную деревянную лохань, стоявшую на выложенном плитами полу, в котором был сделан желоб для стока воды, уходящей в дыру, проделанную в стене. В комнате был очаг – сейчас он не горел. Помещение было похоже и на тюрьму, так как слабый свет проникал сюда только через маленькое окошко где-то наверху, и на обычную комнату, поскольку кровать, на которой лежала Фьора, была удобной и большой, на ней могли поместиться три-четыре человека. Простыни и покрывало были чистыми, но полог из материи в крупных желто-красных разводах висел как-то небрежно. На нем виднелись обрывки блестящих нитей, свидетельствовавших о его более богатом прошлом. Фьора увидела большой сундук: зеленая краска на нем облупилась. На сундуке стоял массивный железный подсвечник, весь в восковых подтеках. Шесть свечей ярко освещали стену напротив кровати.
А стена была грубо расписана самыми яркими красками. Конечно, эта картина не принадлежала кисти ни одного из юных гениев, составлявших славу Флоренции.
Неизвестный художник с большим реализмом изобразил сцены любви дородной нимфы и сатира крепкого телосложения. Фьора покраснела и закрыла глаза, плотно сомкнув веки, чтобы не видеть эту мерзость.
– Ты что, хочешь сделать вид, что спишь? – раздался над Фьорой хриплый голос.
Осторожно открыв глаза, Фьора больше не увидела картину на стене. Вместо нее перед ней предстало какое-то чудовище: нечто грубо высеченное из камня с громовым голосом, с мощными, как у носильщиков, плечами, мускулистыми руками и широкими, как лопата, ладонями. Из того лежачего положения, в каком находилась Фьора, это создание казалось необъятных размеров и почти одинаковым в высоту и ширину. Удивительнее всего, что это была женщина! Ярко-зеленое платье обтягивало мощную грудь: казалось, шелк скрывал два пушечных ядра. Длинные рыжие спутанные волосы обрамляли мясистое лицо. Его можно было бы назвать даже красивым, если бы с него смыть толстый слой краски и если бы глаза были чуть больше. Они походили на два зеленых круглых камешка, но светились некоторой теплотой. На груди у великанши висела масса украшений. Они побрякивали при каждом ее движении, блестели и переливались разными огнями.
– Я не притворяюсь, что я сплю, – сказала Фьора, – но где я?
– У меня.
– Где это: у тебя? И кто ты?
Женщина оперлась о кровать. Постель вся затряслась, что доставило Фьоре новые болезненные ощущения.
– Тебе не обязательно знать, что значит «у меня». А меня зовут Пиппа, Пиппа-великанша или Вираго. Поскольку мы с тобой принадлежим разным мирам, то мое имя, я думаю, ничего тебе не говорит…
– Нет, абсолютно ничего. Но как я сюда попала? Я заснула вчера вечером в монастыре.
– Не вчера вечером, а позавчера. Я уж подумала, что ты никогда не проснешься… Кажется, монахини перестарались со своим снадобьем…
– Со… снадобьем? Но зачем?
Пиппа расхохоталась. Ее смех напоминал ржание лошади. Фьора увидела зубы, которыми можно было бы перемалывать зерно.
– Только из добрых чувств! Это святые женщины, не так ли? Они, должно быть, решили, что незачем портить хороший товар и просто выбросить его в реку.
– Ты хочешь сказать… что это они меня сюда принесли?
– Ну что ты?! Разве добродетельные сестры придут сюда?
И она заржала еще громче!
– Ради бога, – простонала Фьора, – замолчи! Меня тошнит… и страшно болит голова! Мне кажется, у меня весь рот забит какой-то паклей.
Пиппа мгновенно смолкла, нахмурила брови и положила свою лапу на лоб Фьоры:
– Так оно и есть: они перестарались. Сейчас все устроим!
Великанша удалилась, но вскоре вернулась с большой глиняной чашкой, наполненной горячей ароматной жидкостью. Она взяла Фьору за плечи, посадила ее на кровати и протянула ей чашку.
– Выпей все сразу! Это очень горячо, но тебе станет легче!
Фьора обжигалась, но послушно пила… Несмотря на добавленный мед, питье имело горький вкус. Оно содержало лимон, мяту и еще что-то, что Фьора не различила. Когда она все выпила, ее обдало жаром и она стала красной как рак. Ей казалось, что внутри у нее все горит. Не обращая внимания на ее протесты, Пиппа снова уложила ее и набросила на нее все, что было в сундуке.
– Ну вот! – воскликнула она с удовлетворением. – Через час я приду посмотреть, как ты. И не вздумай шевелиться!
Через час простыни сделались мокрыми от пота, но у Фьоры больше не болела голова, и тошнота тоже прошла. Зато она умирала от голода.
Когда великанша вошла в комнату с сухими простынями, Фьора попросила ее принести ей что-нибудь поесть.
Пиппа захохотала:
– Ну что, стало лучше? Это мне уже нравится! Не люблю, когда у меня болеют. Сейчас тебе принесут поесть. А пока встань-ка! Надо все поменять…