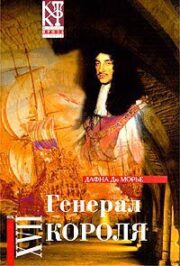— Не отец настоятель из Бодлина? — спросила я, внезапно испугавшись, что мать решила исполнить угрозу и спровадить меня к монашкам.
— Господь с вами, нет. Это молодой человек, на нем голубой камзол, шитый серебром.
Голубое с серебром! Цвета Гренвилей!
— А у него не рыжие волосы, Матти? — спросила я в некотором волнении.
— Тут вы в точку попали, мисс, — ответила горничная.
Значит, тоскливое однообразие закончилось, намечались интересные события. Я послала Матти вниз, а сама принялась нетерпеливо расхаживать по комнате. Разговор у них был недолгий, потому что очень скоро я услышала, как открылась дверь гостиной и чистый, резковатый голос, который я так хорошо помнила, произнес несколько слов, прощаясь с моей матерью; затем в коридоре послышались шаги — гость вышел вo двор. Окна моей комнаты выходили в сад, поэтому увидеть я его не могла, и мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем появилась Матти, с заговорщицки сияющими глазами. Она вытащила из-под фартука туго свернутую бумажку и серебряную монетку.
— Он велел передать вам записку, а пять шиллингов оставить себе.
Опасливо озираясь, словно преступница, я развернула записку и прочла:
«Дорогая сестра!
Хотя Гартред и поменяла Гарриса на Дениса, я по-прежнему считаю себя вашим братом и оставляю за собой право время от времени навещать вас. Однако ваша добрая матушка придерживается иного мнения; она сказала, что вы нездоровы, и сразу же пожелала мне доброго пути. Я проделал верхом десять миль, и не в моих правилах возвращаться домой ни с чем, поэтому пошлите свою горничную, пусть она проведет меня к какое-нибудь укромное место, где мы могли бы поговорить без свидетелей, потому чтоя не сомневаюсь, что вы так же здоровы, как ваш брат и покорный слуга Ричард Гренвиль».
Сначала я решила вообще не посылать ответа: меня разозлило, что мое согласие не вызывает у него и тени сомнения, однако любопытство и бьющееся сердце заставили меня поступиться гордостью, и я попросила Матти провести его в сад, но кружным путем, чтобы из дома не было видно. Как только служанка ушла, я услышала шаги, моя мать поднималась вверх по лестнице, и через минуту дверь отворилась, впустив ее в комнату. Она обнаружила, что я сижу у окна, а на коленях у меня лежит открытый молитвенник.
— Меня радует твое благочестие, Онор, — сказала она. Скромно потупив взгляд, я промолчала.
— Нас посетил сэр Ричард Гренвиль, с которым ты так неподобающе вела себя в Плимуте. Он только что уехал. Оказывается, он на время оставил службу в армии, поселился неподалеку от нас в Киллигарте и собирается выставить свою кандидатуру в парламент от Фой. Несколько неожиданное решение.
Я продолжала молчать.
— Я никогда не слышала о нем ничего хорошего, — заметила мать. — Он всегда был сущим наказанием для своей семьи, его долги доставляют Бевилу массу хлопот. Боюсь, он не будет для нас приятным соседом.
— Зато он отважный солдат, — удержавшись, воскликнула я.
— Об этом я ничего не знаю, — возразила мать, — и мне бы не хотелось, чтобы он продолжал сюда ездить, добиваясь свидания с тобой, когда братьев нет дома. Это говорит о его бестактности.
И, сказав это, она вышла. Услышав, как она прошла в свою комнату и закрыла за собой дверь, я сразу же сняла туфли и, взяв их в руки, на цыпочках спустилась вниз по лестнице в сад, а затем стрелой метнулась к яблоне и забралась в свое укрытие. Я услышала внизу шорох и, раздвинув цветущие ветви, увидела Ричарда Гренвиля, который, пригнувшись, чтобы не задевать головой низко склонившихся веток, прохаживался среди деревьев. Я отломила прутик и бросила в него; он тряхнул волосами и огляделся. Я бросила еще один, который ударил его по носу.
— Черт… — начал он и, взглянув наверх, увидел среди цветов мое смеющееся лицо. Через секунду он уже был рядом и, обхватив меня за талию рукой, прижал к стволу дерева. Сук угрожающе затрещал.
— Слезайте сейчас же, он вот-вот обломится, — вскрикнула я.
— Если не будешь шевелиться, не обломится, — ответил он.
Одно неверное движение — и мы оба могли оказаться на земле, до которой было не меньше десяти футов; с другой стороны — не шевелиться означало, что мы так и останемся сидеть, прижавшись друг к другу, его рука вокруг моей талии, а лицо дюймах в шести от моего.
— Не можем же мы беседовать в такой позе! — запротестовала я.
— А почему нет? Очень приятная поза, — возразил он. Осторожно вытянув ноги, он уселся поудобнее и еще крепче прижал меня к себе. — Что ты хотела мне сказать? — спросил он так, будто это я добивалась с ним свидания.
Тогда я рассказала ему о своем позорном поведении, о том, как брат и невестка отправили меня домой из Плимута, и о том, что я стала узницей в собственном доме.
— И можете больше не приезжать, — добавила я, — моя мать все равно не разрешит нам видеться. Она говорит, что у вас дурная репутация.
— Как это? — изумился он.
— Вы постоянно в долгах.
— Гренвили всегда в долгах, это у нас в крови.
— Вы являетесь сущим наказанием для своей семьи.
— Напротив, это они для меня сущее наказание, у них ни у кого и пенни не выпросишь. Ну и что еще говорит твоя мать?
— Что это бестактно, приезжать сюда и добиваться свидания со мной в отсутствии моих братьев.
— Она неправа. Это как раз очень умно с моей стороны и говорит о большом житейском опыте.
— А о ваших подвигах на войне она ничего не слышала.
— В этом я не сомневаюсь. Ее, как большинство матерей, в настоящее время больше занимают мои подвиги в другой области.
— Что вы имеете в виду? — удивилась я.
— Кажется, ты не так проницательна, как я полагал, — и, ослабив объятия, стряхнул у меня что-то с воротника. — У тебя уховертка сидела на груди.
Я отодвинулась от него, разочарованная этим резким переходом от поэзии к прозе.
— Думаю, мать права, — сухо заметила я. — Это знакомство ни к чему не приведет, и лучше его прекратить. — Мне было нелегко, сидя в скрюченной позе, произнести эти слова с достоинством, но все же я распрямила плечи и попыталась гордо вскинуть голову.
— Все равно, если я тебя не выпущу, ты не сможешь спрыгнуть вниз, — сказал он. И действительно, после того как он вытянул ноги, я оказалась в ловушке.
— Подходящий момент, чтобы поучить тебя испанскому языку, — пробормотал он.
— Я не желаю его учить, — ответила я.
Он засмеялся и вдруг, сжав мое лицо в ладонях, поцеловал в губы. Для меня это было ново и неожиданно приятно, на какой-то момент я даже потеряла дар речи и, отвернувшись, сделала вид, будто увлеченно рассматриваю яблоневый цвет.
— Если хочешь, можешь идти, — предложил он.
Я не хотела, но гордость не позволила мне сознаться в этом. Тогда он спрыгнул с дерева и, сняв меня с ветки, поставил рядом с'собой на землю.
— Сидя на яблоне довольно трудно быть галантным, — заметил он. — Передай это своей матушке, — и он улыбнулся той же насмешливой улыбкой, какую я впервые увидела на его лице в Плимуте.
— Я ничего не буду ей передавать, — ответила я, обиженная его тоном.
С минуту он молча разглядывал меня, а затем произнес:
— Попроси садовника подрезать верхнюю ветку на яблоне, тогда в следующий раз нам будет удобнее.
— Я не уверена, что приду сюда еще раз.
— Конечно, придешь, — сказал он, — и я тоже. Кроме того, моему коню необходимы нагрузки.
Он повернулся и направился к воротам, где оставил лошадь; я молча брела следом, путаясь в густой траве. Он схватил поводья и вскочил в седло.
— Между Ланрестом и Киллигартом десять миль. Если я буду приезжать сюда два раза в неделю, Даниель будет в прекрасной форме к лету. Жди меня во вторник. И не забудь про садовника.
Он помахал мне перчаткой и ускакал прочь.
Я глядела ему вслед, убеждая себя, что он такой же противный, как Гартред, и что я больше не желаю его видеть; однако несмотря на это во вторник я снова была в саду под яблоней…
Так начался этот странный и, на мой взгляд, ни на что не похожий роман. Думая об этом сейчас, когда прошло уже столько лет — как-никак четверть века! — и когда последующие события добавили ясности моему пониманию жизни, тот период представляется мне прекрасной сказкой, увиденной во сне. Раз в неделю, а иногда и два, он приезжал в Ланрест из Киллигарта и, уютно устроившись в ветвях яблони, — противный сук обрезали в тот же день, — с полного моего согласия учил меня любви. Ему было двадцать восемь, а мне восемнадцать. Стояла весна, вокруг нас пели птицы, гудели пчелы, с каждым днем все выше поднималась густая трава — казалось, этим мартовским и апрельским дням не было начала и не будет конца.