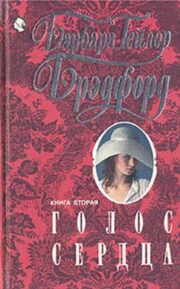— Он уже спит. Не буди его. Иначе он пожелает провести вечер с папочкой, который его только балует.
Дружелюбной улыбкой она постаралась скрасить брошенный упрек, повернулась и вышла из кабинета, шурша тафтой своего вечернего платья. Ник проводил ее вниз, помог надеть норковую шубку и поцеловал на прощание в щеку.
— Я поймаю тебе такси. Не люблю, когда ты одна ходишь по улицам. Пошли, я хочу проследить, что ты благополучно уехала.
Карлотта принялась было возражать, но Ник, не обращая внимания на ее протесты, быстро довел ее до перекрестка семьдесят четвертой улицы и Мэдисон-авеню, где им пришлось довольно долго мерзнуть на ледяном январском ветру. Наконец Ник заметил такси и, остановив его взмахом руки, помог Карлотте забраться в машину.
— Повеселись хорошенько, — напутствовал он ее, захлопывая за ней дверцу, потом повернулся и быстрым шагом направился назад к своему дому, где одним махом взлетел по ступеням к дверям. Нанеся визит на кухню и поболтав там недолго с Перл, совмещавшей у них обязанности кухарки и домоправительницы, Ник поднялся на второй этаж, где находилась комната сына. Он осторожно открыл дверь и вошел, неслышно ступая. В слабом розовом свете ночника он разглядел хорошенькую головку сына, лежавшую на подушке рядом с растрепанным плюшевым мишкой Снупи. Нагнувшись, Ник поправил одеяло, нежно погладил сына по голове с мягкими прямыми волосами и, склонившись еще ниже, поцеловал его в гладкую пухлую щечку.
— Спи спокойно, родной, — прошептал он, — я люблю тебя.
Следующие минут сорок или около того Николас Латимер провел за письменным столом в своем кабинете, тщательно правя и редактируя написанные за последние несколько дней страницы нового романа. Покончив с ними, Ник потянулся, снял очки в роговой оправе и устало протер глаза. Страницы сами по себе были хороши, но глава в целом все еще не получалась такой, как ему хотелось, и будь он проклят, если знал — почему. Ник всегда умел замечать слабые места в своих рукописях, считая эту свою способность особым даром. Гораздо важнее для писателя самому видеть свои недостатки и устранять их, чем замечать одни только удачи. Сейчас же Нику стало казаться, что он утратил эту способность к самокритике, и это его встревожило. Начало книги получилось превосходным, и работа над ней, продвигавшаяся на удивление гладко, без запинок, в последние месяцы неожиданно застопорилась, и он совершенно перестал двигаться вперед.
— Почему? — громко и требовательно спросил сам себя Ник и вскочил, охваченный нарастающим волнением. Он налил себе еще выпить, плюхнулся на диван, закурил сигарету и, растянувшись на спине, уставился в пространство. Его взгляд сам собой упал на книжные полки напротив, где написанные им романы выстроились в длинный ряд. Все они были мировыми бестселлерами, но каждый из них потребовал от него чудовищных усилий, стоил ему больших душевных страданий и огорчений. Ник нахмурился. Может быть, вот в чем дело: он ожидал, что все теперь пойдет намного легче. Но писать никогда не бывает легко. Если наступит такой день, когда его работа перестанет волновать его, то он должен немедленно отложить перо в сторону и навсегда покончить с писательским трудом. Вздохнув, Ник вытянулся на диване и задумался о своем житье-бытье.
Почему все-таки работа над книгой не спорится? Почему он чувствует себя таким усталым, неспокойным, раздраженным, даже опустошенным? Ведь он — один из самых удачливых современных романистов. Он заработал больше денег, чем он мог придумать, на что их потратить. У него прекрасное здоровье, тьфу-тьфу, надо постучать по дереву. Для своего возраста он вполне прилично выглядит — совсем немного седины в волосах, совсем нет морщин и складок обвисшей кожи. И, что важнее всего, у него есть сын, которого он обожает. Здоровый, красивый, умный мальчик с такой несравненной улыбкой, такой милый и любимый. Правда, некоторым критикам, когда-то превозносившим его, он перестал теперь нравиться. Но какое ему до них дело, до этих придир. Они — всего лишь узкая группка снобов, осуждающих его за то, что он, по их мнению, продался в погоне за коммерческим успехом. Может быть, их злит именно то, что его книги хорошо раскупаются? Вероятно, именно в этом все дело. Но неужели писатель трудится до изнеможения, растрачивая лучшие годы жизни, не надеясь на то, что его книги станут покупать? В любом случае его критики не правы. Он отнюдь не выдохся и не растратил свой талант, как они считают. Он продолжает писать о том, о чем хочет, и так, как находит нужным, отдавая своей работе все лучшее, что есть в нем. Более того, он вкладывает в каждую новую книгу частицу своей души. Читатели любят его произведения. К счастью! Вот если чье-либо мнение действительно что-то значит, так это мнение его читателей, благослови их Господь. Они, выкладывающие добытые нелегким трудом деньги за его книги, пишут ему чудесные теплые письма, вдохновляют его своими трогательными словами, скрашивают вечное писательское одиночество. А те литературные снобы, обвиняющие его в том, что он принес свой талант в жертву богу книготорговли, могут взять свои литературные премии и заткнуть ими свои глотки. Ник широко улыбнулся, представив себе, как много найдется таких глоток. А может быть, это вовсе не глотки, а нечто совсем противоположное? Надо будет обсудить это с отцом. И Ник громко расхохотался.
Заметив, что забытая им сигарета чадит, догорев до самого фильтра, Ник сел и загасил ее в пепельнице, морщась от противного запаха. Он потянулся было к серебряной шкатулке за новой сигаретой, но тут же отдернул руку. «Я же собираюсь в скором времени покончить с курением», — пробормотал он и отхлебнул глоток водки. Карлотта считает, что он слишком много пьет. Это не так, но, впрочем, пусть себе думает, что хочет. Его взгляд задержался на фотографии Карлотты, стоявшей на старинном столике рядом с диваном. Она была снята верхом на лошади на ранчо ее отца в Венесуэле, занимавшем площадь в четыре тысячи акров, и выглядела на снимке очень гордой, даже величественной и экзотически красивой. Карлотта Мария Калдекотт-Мендес-Энрайт. Фамилию Калдекотт она унаследовала от матери, элегантной и величавой Джиллиан, происходившей из семьи, принадлежащей к высшему обществу Филадельфии. Мендес — фамилия ее отца, дона Алехандро, отпрыска одного из самых богатых и могущественных семейств в его стране, а фамилия Энрайт осталась ей в наследство от увлечения юности, Джимми, недолго бывшего ее мужем, одного из тех калифорнийских Энрайтов, о которых никто не мог точно сказать, откуда они взялись. Она выскочила замуж за бедного недалекого Джимми, когда ей было двадцать три года, но очень скоро развелась с ним. Годом позже она познакомилась с Ником, и с тех пор они живут вместе.
Ник взял фотографию, поднес ее к глазам и стал пристально разглядывать ее ангельское личико с горячими карими глазами, обрамленное водопадом белокурых волос. Нет слов, она, несомненно, красавица и порой бывает очень мила, но, по большей части, ведет себя, как злая дикая кошка. «Странная смесь, — подумал Ник, — холодная независимость янки с их пуританским упрямством и твердостью в сочетании с горячей латиноамериканской кровью и бешеным темпераментом. В результате — молодая женщина с непредсказуемым характером, с постоянно меняющимся настроением. Тебе надо расстаться с нею, Николас Латимер. Ты несчастлив, и это чертовски отравляет тебе существование, в этом причина всех твоих нынешних проблем».
Поставив фотографию на место, Ник вскочил на ноги, подошел к окну и с угрюмым видом выглянул во двор. Выпавший несколько дней назад снег успел осесть и посереть, пропитавшись городской гарью. Лишенное листьев одинокое дерево казалось безжизненным скелетом на фоне серого, подсвеченного огнями Манхэттена неба, и выглядело сиротой. «Ты похоже на нас двоих, дерево», — сказал сам себе Ник. Он стоял у окна, опустив плечи, подавленный и несчастный, и безуспешно старался направить свои мысли по иному руслу, но они упрямо вновь и вновь возвращались к Карлотте. Он хотел жениться на ней, и она сама стремилась выйти за него замуж, но им никак не удавалось довести свои намерения до свадьбы. К сожалению, их устремления никогда не совпадали по времени, и они так и оставались официально неженатыми. В последнее время они ощущали давление, оказываемое на них со всех сторон, включая Виктора Мейсона. Две пары невероятно богатых бабушек и дедушек были очень расстроены той неопределенностью, в которой рос обожаемый ими внук, но ничего не могли поделать.