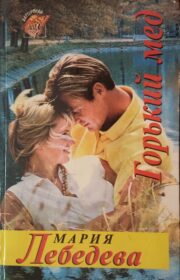И в результате поисков, включавших предположения и расчеты, осторожную слежку, вынюхивание и запугивание, изнурительное сидение в засаде, они с Малышом эту информацию добыли.
От резкого телефонного звонка Ольга вздрогнула и упустила петлю. Отложив вязанье, прошла в прихожую, сняла трубку.
— Олюня, привет! — раздался знакомый голос. — Ну как ты там? Что делаешь?
Светка старалась говорить легко и непринужденно, как прежде, но в интонациях ее голоса и даже в паузах чувствовалась скованность и настороженность, словно она боялась сказать что-то не то.
Ольга вспомнила, как Светка, узнав от Кирилла об обстоятельствах смерти дяди Паши, примчалась на Кутузовский на такси и, войдя в квартиру, не раздеваясь, бухнулась ей в ноги и залилась слезами. Задыхаясь от рыданий и глотая слова, она выкрикивала что-то бессвязное о своей вине и о том, что прощения ей нет и быть не может. Потом вдруг внезапно замолчала, будто какая-то мысль неожиданно осенила ее, резким движением поднялась с колен и, проговорив: «Я знаю, что мне делать!» — выбежала из квартиры.
Это воспоминание тоже было смутным и туманным, как и все, что происходило вокруг в те дни. Потом пришел Кирилл и появился откуда-то страшно взволнованный Шурик, который разыскивал убежавшую из-под надзора тети Дуси Светку. Но Ольга не могла бы поручиться, что все это было на самом деле, а не приснилось ей в беспокойном, тревожном сне.
Позже выяснилось, что Светка обосновалась в своей прежней комнате, чтобы, по ее словам, «встретить опасность лицом к лицу». Когда Шурик обнаружил ее там, она наотрез отказалась вернуться в нему, заявив, что не может прятаться по углам, когда ни в чем не повинные люди погибают, в сущности, из-за ее дури и легкомыслия.
Шурик, призвав на помощь Кирилла, терпеливо втолковывал ей, что ее вины тут нет, что у Павла Сергеевича было очень больное сердце, а события последних дней окончательно подорвали его силы и выбили из колеи, что появление вооруженных бандитов в квартире Ольги действительно сыграло роль, что называется, последней капли, но при таком положении дел последней каплей могло послужить что угодно, хотя бы отсутствие в нужный момент лекарств, которые все остались на даче.
Однако Светка упорно стояла на своем, и у Шурика не было иного выхода, кроме как, воспользовавшись симпатией квартирной хозяйки и пожаловавшись ей на якобы временные трудности с жильем, плюнуть на свою срочную работу и остаться при Светке верным сторожем и защитником. Этому помогло и то обстоятельство, что хозяйка, разругавшись в пух и прах с родственниками и вернувшись поэтому в Москву раньше намеченного срока, все свои старческие надежды возлагала теперь на Светку, а Шурика рассматривала как ее жениха и будущего мужа.
Дня три спустя заявился Никита, один, без своего нервного напарника с пистолетом. Старушка, открыв дверь, сразу признала в нем того самого парня «с добрыми глазами», который так настойчиво разыскивал ее жиличку.
Проговорив минут двадцать с Никитой, Шурик не удивился, что тот совсем не походил на преступника, а, напротив, производил впечатление человека мягкого и интеллигентного. Но незабываемый образ Ираклия постоянно стоял у него перед глазами, напоминая о том, что бандит нынче пошел, не в пример прежнему, до того замаскированный образованностью и хорошими манерами, что, пока он не приставит тебе пистолет к виску, ни за что не отличишь его от порядочного человека.
Однако Никита явился не с угрозами и требованиями, а с конкретным деловым предложением, которое на удивление совпало с расчетами и надеждами Шурика. И предложение Никиты, и расчеты Шурика связаны были со Светкиным чудо-телефоном, подарком Геннадия, вернее, не с самим аппаратом, а с его приставкой — определителем номера абонента.
Все эти события моментально пронеслись в голове, как только Ольга услышала Светкин голос, знакомый и чужой одновременно.
— Что делаю? — вяло переспросила она. — Вяжу… Кофту себе вяжу. — И замолчала.
— Завтра на работу?
— Да.
Светка хотела рассказать подруге о своих перипетиях, связанных с поиском работы, чтобы немного развлечь ее, но, почувствовав, что та явно не расположена к общению, виновато забормотала на прощание:
— Ты извини… я просто так позвонила… подумала, может, тебе нужно что-нибудь…
«Раньше думать надо было, — повесив трубку, разозлилась Ольга, — прежде чем с Ираклием своим на хутор подаваться…»
Странное дело, не сама ли она поддерживала Шурика с Кириллом, когда те убеждали Светку, что в дядипашиной смерти она не повинна? А что же теперь? Теперь она так не считает? Снова и снова задавая себе этот вопрос, Ольга не находила однозначного ответа.
Поначалу она действительно никак не связывала смерть дяди Паши со Светкой, вернее, с той ситуацией, в которой они все из-за Светки оказались. Ольга вспомнила залитое слезами лицо подруги, ее срывающийся голос, раскаяние и детскую беспомощность во взгляде… А потом — эта отчаянная Светкина решимость искупить свою вину, вернувшись в комнату, куда каждую минуту могли ворваться бандиты.
Однако настал день, когда сбылись надежды Шурика и оправдались расчеты Никиты: Светке позвонил Ираклий. Первым делом он спросил, не беспокоил ли ее кто-нибудь с целью выяснить его координаты. Несмотря на то что звонок этот не был неожиданностью, ведь Ираклий твердо обещал позвонить, как только они с Николашей устроятся, Светка в первое мгновение растерялась. Но, подбадриваемая выразительной мимикой и жестикуляцией Шурика, быстро сориентировалась, взяла нужный тон и бодро заверила Ираклия, что никто его не разыскивал и о нем не спрашивал.
После этих слов голос его обрел прежнюю бархатистость, и он проворковал, что страшно скучает без нее и все еще надеется, может, она все-таки решится приехать. Однако на ее нетерпеливый, но естественный вопрос: куда? — Ираклий прямого ответа так и не дал, а просто посоветовал ей подумать над его предложением и пообещал позвонить через неделю-другую.
Ираклий, приняв, как ему казалось, все меры предосторожности, не мог учесть ловушку, расставленную ему чудо-телефоном, поскольку, заезжая в свое время за Светкой, в квартиру к ней никогда не поднимался и о существовании этого телефона просто не знал. А ловушка захлопнулась, как только заветные девять цифр высветились на табло.
Этой информации, переданной через Никиту режиссеру, оказалось достаточно, чтобы Светку оставили наконец в покое и чтобы кошмар последних месяцев ее жизни, в который оказались втянуты и мать, и друзья, вмиг отступил и рассеялся, словно туман под горячими лучами солнца.
Вот с этого-то момента, как заметила Ольга, Светка вдруг переменилась Она напоминала человека, действительно выпущенного из темницы на волю: стала шить себе какие-то наряды, бегать с Шуриком по выставкам и концертам и даже купила абонемент в бассейн.
Но главное заключалось в том, что она будто начисто забыла о своем чувстве вины, которое еще совсем недавно так сильно угнетало ее, что Шурик начал было опасаться за здоровье своей подопечной. Теперь же, общаясь со Светкой, можно было подумать, что ни страхов, ни леденящего душу ужаса, ни сломанной руки Шурика, ни смерти дяди Паши от сердечного приступа, спровоцированного появлением вооруженных бандитов, — ничего этого как бы и не было. Ольге казалось, что Светка, отдав Ираклия на растерзание режиссеру и тем самым избавив от угрозы своих близких и себя лично, поставила на этом крест, словно желая вычеркнуть из памяти эти события и вернуться к веселой и беззаботной жизни.
Ольга старалась быть беспристрастной, поэтому не могла не согласиться с Шуриком и Кириллом, что дядя Паша был в очень плохом состоянии и приступ мог быть спровоцирован чем угодно. Но проснувшийся у Светки вкус к жизни, с ее удовольствиями и развлечениями, явное стремление уйти от прошлого она воспринимала почти как предательство, и глухое раздражение на подругу, стеной вставшее между ними, в корне убивало любые попытки вернуться к прежним доверительным и нежным отношениям.
Она вернулась на кухню, поставила чайник на плиту и тут же с болью вспомнила, как сиживали они здесь с дядей Пашей, пили чай с вареньем и говорили обо всем на свете. Ольга могла рассказать ему все… или почти все. Она не считала нужным делиться с ним, пожалуй, лишь кое-какими сложностями своей личной жизни, исключительно из тех соображений, что помочь он ничем не сможет, а расстроится непременно.