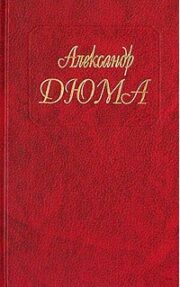У Эдмеи была одна странная черта.
Смерть лежит в основе всего в нашей жизни — недаром Плиний говорил за девятнадцать веков до нас, что человек начинает умирать, как только рождается; однако, пока мы живы, особенно в юную и светлую пору жизни, смерть остается скрытой от наших глаз.
Но Эдмея неизменно ощущала присутствие смерти и относилась к ней как к кормилице новой, неведомой жизни, к той, что всегда готова напоить божественным молоком и убаюкать на своей вечной груди.
Зоя взяла маленькую Богоматерь, а также большой алтарный покров, над которым трудилась графиня, когда я пришел, и пошла вслед за нами.
Графиня не стала ждать, когда я подам ей руку, о чем я, задумавшись, совсем забыл, а сама оперлась на мою руку.
До кладбища, куда мы направлялись, было примерно двести шагов.
Мы не проделали и четверти пути, как Эдмея остановилась и спросила:
— Вы слышите моего крылатого поэта?
В самом деле, до нас долетали благозвучные рулады соловья.
— Он рассказывает о своем романе с розой, — продолжала графиня, — и хотя это кладбищенская роза, соловей все равно ее страстно любит. Если то, что вы мне говорили, правда, Макс, вы с ним немного похожи: вы тоже любите кладбищенскую розу, бледный и хрупкий цветок, — добавила она с невыразимой грустью, — ваша избранница, возможно, проживет не дольше той, в которую влюблен бедный бюльбюль[10].
— Эдмея! Эдмея! — воскликнул я, прижимая ее руку к своему сердцу. — Как вы можете говорить мне такое?
— Что поделаешь, друг мой! С тех пор как горе сделало меня невеселой, я всегда предчувствовала, что рано умру. Древние говорили: «Ранняя смерть — доказательство любви богов», а они вряд ли верили, что душа существует. Почему бы и нам, для кого верование в вечность нашей жизни, более того, убежденность в этом, является религиозным догматом, не согласиться с мнением древних?
Когда мы вошли на кладбище, Эдмея остановилась. Я подумал, что ей хочется послушать пение соловья, заливавшегося сильнее, чем прежде, но она стала смотреть по сторонам.
Я тоже огляделся, стараясь понять, что привлекло ее внимание, и заметил двух мужчин, сидевших на скамье у входа в церковь. Они тут же поднялись и направились к нам.
— Кто эти люди? — спросил я Эдмею, невольно вздрогнув.
— Один из них — знакомый вам Грасьен, а другой — могильщик, которому я плачу небольшое жалованье вперед, предвидя, что не сегодня-завтра мне придется прибегнуть к его услугам.
— Как вы жестоки, Эдмея!
— Почему же, Макс? Если я когда-нибудь вас покину, то буду ждать вас там… Правда, в случае излишней поспешности я, возможно, рискую, что меня забудут.
— Никогда! Никогда! — воскликнул я. — О Эдмея, обещаю, что буду с вами и здесь, и в ином мире. Я клянусь в этом перед лицом…
— Не клянитесь, — перебила меня графиня, — я не хочу, чтобы вы чувствовали себя связанным клятвой. Нет, Макс, вы слишком добры, благородны и великодушны, чтобы Бог вас оттолкнул. Если даже мы встретимся там, наверху, не как влюбленные, мы будем друзьями.
Затем, обращаясь к подошедшим мужчинам, она спросила:
— Ну, Грасьен, и вы, папаша Флёри, чего вы ждете?
— Мы ждем распоряжений госпожи графини, — последовал ответ.
— Разве вам неизвестно, зачем я здесь, Грасьен?
— Конечно, но я не знал, можно ли при господине де Вилье…
Эдмея промолвила с улыбкой:
— Господин де Вилье — свой человек, Грасьен, поднимайте камень.
Мужчины направились к могиле, которую в ночь после свадьбы Зои показывала мне г-жа де Шамбле, говоря, что она предназначена ей.
Они приподняли надгробный камень, на котором графиня лежала тогда как мертвая, в то время как соловей пел у нее над головой.
Когда мужчины приблизились, птица перелетела на соседний куст.
Я тоже подошел к могиле, глядя на нее с любопытством, смешанным со страхом.
Под сдвинутым камнем открылась лестница из двенадцати ступеней, упиравшаяся в дубовую дверь.
Я понял, что эта дверь ведет в подземный склеп.
— Вы собираетесь сюда спуститься? — спросил я Эдмею, удерживая ее.
— Разумеется, — отвечала она. — Если помните, в «Соборе Парижской Богоматери» (я имею в виду книгу, а не храм) есть глава под названием «Келья, в которой Людовик Французский читает часослов». Так вот, это моя келья, где я читаю свой часослов.
Между тем папаша Флёри открыл дверь склепа.
Графиня отпустила мою руку, поставила ногу на первую ступеньку (по узкой лестнице можно было спускаться только по одному) и воскликнула, повернувшись вполоборота:
— Пусть тот, кто меня любит, последует за мной!
Я тотчас же стал спускаться, ибо готов был устремиться за Эдмеей даже в бездну.
Когда я добрался до последней ступени, графиня, уже стоявшая внизу, протянула мне руку со словами:
— Позвольте пригласить вас в мой дом.
Я вошел в склеп.
Это было помещение длиной в десять футов и шириной примерно в шесть футов; в глубине него стоял диван. Мы с Эдмеей присели на него.
В тусклом свете висевшей на потолке алебастровой лампы смутно виднелся небольшой алтарь; стены склепа были покрыты драпировкой, на которой блестели золотые звезды.
— Оставьте нас, друзья, — обратилась графиня к Грасьену и могильщику, — и возвращайтесь, когда пробьет одиннадцать.
Зоя взяла у папаши Флёри ключ и, как только мужчины вышли, заперла за ними дверь. Мы остались в склепе втроем, чувствуя себя отрешенными от мира.
Я стал гадать, чем мы будем дышать, но, подняв голову, заметил зарешеченное окно, скрытое за цветником; сквозь его прутья виднелось звездное небо.
— О! Я надеюсь, что когда-нибудь вы расскажете мне, Эдмея, — сказал я, — что за страдания вынудили вас устроить молельню в склепе. Бедное сердечко мое! Сколько ужасов тебе довелось пережить, чтобы решиться на такое!
— Да, я действительно много и долго страдала, ведь наши страдания измеряются главным образом своей продолжительностью. Однако, как я уже говорила, Бог послал мне вас, Макс. Вы отчасти рассеяли окружавший меня мрак, и сквозь этот просвет я увидела кусочек голубого неба. К тому же, друг мой, вы сейчас увидите, что моя молельня не так уж мрачна, как вам показалось на первый взгляд. Зоя, поднимите занавеси и зажгите свечи на алтаре: сегодня у нас праздник.
Зоя зажгла множество маленьких свечей, расставленных на ступеньках алтаря, и вскоре первоначальный полумрак сменился ярким светом.
Затем она подняла и закрепила в каждом углу серебряными подхватами фиолетовые бархатные портьеры с серебряной бахромой. При этом открылась их голубоватая, как бледное осеннее небо, атласная изнанка, расшитая серебряными звездами — плод кропотливой работы. Опускаясь, то есть принимая свое обычное положение, портьеры закрывали всю обивку стен и придавали усыпальнице траурный вид, особенно когда не горели свечи и озарял ее лишь мертвенный свет лампады. Теперь же, когда яркий свет играл в складках ткани, склеп показался мне не столь мрачным.
— Посмотрите, — сказала Эдмея, — мы с Зоей провели за этим унылым занятием около двух лет. Еще когда имение Жювиньи было моим, я собиралась поместить мою маленькую Богоматерь в склеп, чтобы она охраняла мертвых так же, как живых. Узнав, что поместье продано со всей обстановкой, я больше всего жалела, что мне не пришло в голову заранее перевезти сюда Мадонну, но я хотела поставить ее на алтарь, когда склеп будет окончательно отделан. Нам с Зоей требовалось для этого еще две недели. У меня опустились руки, и мы отложили работу. Затем в ночь после свадьбы Зои вы сказали мне, что приобрели Жювиньи. Тогда я воспрянула духом, сказав себе, что вы безусловно не откажетесь выполнить мою просьбу, и мы снова взялись за вышивку еще более рьяно, чем прежде. Позавчера покрывало для алтаря было закончено, и в тот же день Грасьен обил стены коврами и повесил портьеры. Вчера мы поставили на алтарь свечи, и в то же утро Грасьен отвез вам мое письмо. Вы не просто разрешили ему забрать мою дорогую Мадонну, а сами доставили ее — поэтому я была обязана пригласить вас на освящение своего алтаря.
Зоя, — добавила она, — дай мне Пресвятую Деву и расстели покрывало на алтаре.
Графиня взяла статую и установила ее между свечами; между тем Зоя накрыла алтарь покрывалом, опустив его впереди до самого низу.