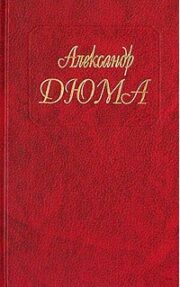«Что делаешь ты здесь, Офелия, сестренка?»
«Люблю я собирать цветы порой ночной».
«Но отчего, дитя, дрожит твой голос тонкий?»
«Спросите у ручья, ведь плачет он со мной».
«Зачем приходишь ты сюда в часы заката,
Все на воду глядишь, и взор твой так уныл,
Кувшинку ли сорвать, оплакать ли утрату?»
«Увы! Отец мой мертв, а милый изменил.
Моя душа давно в долину сновидений
Ушла вслед за отцом, чтоб обрести покой,
И в полночь вновь манят меня родные тени
В край призрачной любви и смерти дорогой».
Эдмея говорила правду: это были не музыка и стихи, а жалобы, стон, ропот, нечто смутное, блуждающее и ускользающее, даже граничащее с бредом. Такие стихи пишутся для себя; такие песни женщина поет, когда уверена, что в доме никого нет, либо когда рядом с ней верный друг, от которого у нее нет ни секретов в душе, ни тайн в сердце.
Если бы я еще не знал, что Эдмея любит меня, песня сказала бы это за нее.
— О милая Эдмея, — прошептал я, — я не смею признаться, что мне хотелось бы поцеловать вас в губы — это было бы чересчур большое счастье, но я жажду слушать ваш голос, взлетающий к Небу, и вдыхать исходящий от вас опьяняющий аромат. Еще пожалуйста, еще, спойте что-нибудь свое!
— Берегитесь! — воскликнула графиня. — Если я спою вам что-либо написанное не в пору грусти, а в порыве отчаяния, я рискую опечалить вас на целую неделю. Будучи не в силах светить своим друзьям, как солнце, я не хотела бы омрачать им жизнь, как туча.
— Будьте тем, чем пожелаете, только спойте.
— Значит, вы не боитесь скорбных глубин, куда мы погружаемся от безысходности?
— Эдмея, я хочу посетить все те места, где вы бывали без меня, так же как отныне я буду следовать за вами повсюду, клянусь вам.
— Что ж, в таком случае, слушайте.
Руки графини снова опустились на клавиши, и те издали горестный заунывный стон, напоминающий звуки заупокойного благовеста. Почти тотчас же ее голос заглушил музыкальное сопровождение.
— Это плач! — прошептала Эдмея и принялась не петь, а скорее исполнять речитативом на старинный лад:
Наверно, проклят тот злодейкою-судьбою,
А может, покарал его за что-то Бог,
Кто в неурочный час, став жертвой роковою
Случайности слепой, живым в могилу лег.
И все же на земле ужасней нет страданья,
Судьбы печальней нет, чем жребий горький мой —
В расцвете лет своих и вопреки желанью
Ходячим трупом быть с умершею душой!
Она сказала правду: ныряльщику Шиллера не доводилось видеть в бездонных пучинах Харибды столько ужасных бесформенных образов, какие предстали передо мной в этой бездне отчаяния.
— О! Ради Бога, Эдмея, — взмолился я, — не заканчивайте так! Вы навеяли на меня печаль — мне даже кажется, что нас ждет беда!
— Что я вам говорила, бедный друг? Вы хотели измерить глубину человеческого страдания, но разве вам неизвестно, что в море не всегда можно достать до дна? Вы оказались как раз в одном из таких мест, но я пожалею вас. Ну, горе-ныряльщик, живо на поверхность, иначе вы задохнетесь, пробыв всего минуту в той удушливой атмосфере, где я провела столько лет! Дышите, друг мой, дышите полной грудью; кругом — столько воздуха и света!..
Эдмея снова запела, на этот раз без сопровождения, дрожа от волнения:
Ах, почему опять тянусь к бумаге я?
Не спрашивай меня, я этого не знаю.
Но скоро ты поймешь: излита страсть моя
В бесхитростных словах, а я без слов страдаю.
Придет к тебе письмо. Увы! Оно одно,
И все же верю я: по Божьему веленью
Томиться без тебя лишь телу суждено,
Но полетит душа, отбросив прочь сомненья,
На крыльях полетит к тебе вслед за письмом,
Чтоб о любви сказать, ведь счастья нет иного —
Любить тебя, мой друг, и говорить о том…
«Люблю! Люблю! Люблю!» — я повторяю снова.
Произнося слова:
Томиться без тебя лишь телу суждено,
Но полетит душа, отбросив прочь сомненья, —
она подняла глаза к Небу с выражением ангельской кротости и страстной веры.
Затем, дойдя до последних строк:
Любить тебя, мой друг, и говорить о том…
«Люблю! Люблю! Люблю!» — я повторяю снова, —
она откинула голову назад, прекрасная, как Сапфо в экстазе, словно и в самом деле хотела, чтобы я поцеловал ее в губы.
Не в силах совладать с собой, я наклонился к графине, и последние звуки песни слились для меня с ее дыханием. Наши губы сближались и должны были неминуемо встретиться, как вдруг что-то темное пронеслось мимо окон, будто молния. Это был г-н де Шамбле, проскакавший по двору во весь опор.
Я быстро отодвинулся от Эдмеи, но она удержала меня.
— Подождите, — сказала графиня, устремив взгляд на стену в том направлении, куда удалился граф, — он идет не сюда, а поднимается в свою комнату… Ах! Его поездка оказалась успешной. Тем лучше! По крайней мере, господин де Шамбле встретит вас с приветливой улыбкой.
— Что же ему удалось сделать? — спросил я.
— Он ездил за деньгами к нашим арендаторам и получил довольно крупную сумму. Граф рассчитывает удвоить ее за карточным столом, но скорее всего потеряет и это.
Эдмея встала и тихо, как бы размышляя вслух, прибавила:
— Увы! Кто бы сказал, что слово «деньги» будет играть столь важную роль в моей судьбе?
При этом она вздохнула и слегка пожала плечами.
Затем она обратилась ко мне со словами:
— Дайте мне вашу руку, дорогой Макс, и пойдемте в бильярдную.
XXXII
Почти одновременно с нами туда вошел улыбающийся г-н де Шамбле. На нем была черная бархатная куртка, облегающие замшевые брюки и мягкие сапоги выше колена, забрызганные грязью. Он держал в руке бархатную фуражку — этот головной убор сельские дворяне позаимствовали у жокеев.
Сначала граф приветствовал нас жестом и взглядом, а затем, не произнеся ни слова, направился к графине, взял ее за руку и сказал:
— Сударыня, вы прекрасно выглядите, и я не вижу надобности спрашивать вас о здоровье. Поэтому я задам этот вопрос своим друзьям, хотя, как я полагаю, благодаря вашим заботам они тоже чувствуют себя превосходно.
Затем, повернувшись к гостям, г-н де Шамбле стал раскланиваться с одними, пожимать руку другим — в зависимости от того, насколько он был с ними близок; он сказал каждому что-то особенно приятное с обаянием, присущим только благородным и воспитанным людям.
Я тоже удостоился немалой доли похвал графа.
— Господа, — сказал он, — это господин Макс де Вилье, который никогда не играет. Тем не менее, он не может запретить нам делать на него ставку. А потому я ставлю двадцать пять луидоров и уверяю вас, что наверняка выиграю, поскольку наслышан о ловкости господина де Вилье; итак, я ставлю двадцать пять луидоров на то, что завтра он станет королем охоты. Притом, я добавлю, что даже тем, кто не может соперничать с господином де Вилье, будет приятно посмотреть на охоту. Мои смотрители говорят, что только в поместье Шамбле сейчас двадцать пять — тридцать стай молодых куропаток. Зайцев же столько, что не стоит даже и пытаться их сосчитать. Вечером мы будем возвращаться через лесок, где обитает сотня фазанов и пять-шесть косуль. В придачу к этому я могу предложить вам ужин, который вы съедите с отменным аппетитом, и чертовски азартную игру.
Все дружно поблагодарили г-на де Шамбле: одни — в предвкушении интересной охоты, другие — в ожидании вкусного ужина, а третьи — в надежде на удачную игру.
Затем граф попросил разрешения удалиться, чтобы привести себя в порядок. Игроки снова стали делать ставки, а мы с г-жой де Шамбле спустились в сад.
Мне было бы трудно вспомнить, о чем мы говорили, хотя наш разговор можно вообразить, учитывая состояние наших сердец; тем, кто видел нас из окна, — а мы не отходили далеко от дома, — мы, наверное, казались посторонними друг другу людьми, беседующими на незначительные темы. Нам же казалось, что наши души соприкасаются, голоса звучат согласованно, исполняя тихую симфонию любви, а мы сами похожи на свечи, горящие на разных алтарях, но жаждущие слиться воедино.