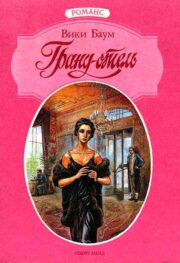«Дорогой Отто! — писала фрау Крингеляйн, женщина, которая никогда не была ему близка, а сейчас и вовсе скрылась из виду в немыслимой дали. — Дорогой Отто! Я получила твое письмо. Болезнь твоя лишь оттого, что ты не сопротивляешься ей, папа тоже так считает. Папа заставил меня подать прошение в администрацию, чтобы мне дали материальную помощь, но ответа я пока не получила. Пишу я тебе в основном из-за нашей плиты, потому что дальше так продолжаться просто не может. Приходил Биндер, осмотрел дымоход, он говорит, что нет тяги, и вообще во всем фабричном поселке печи выходят из строя. А раз так, пускай они доплачивают нам за уголь! С таким дымоходом угля не напасешься, а кто же будет оплачивать счета за уголь? Я говорила с Биндером, он сказал, что меньше чем за 15 марок ремонтировать наш дымоход не согласен. Но зато мы сэкономим на угле. Конечно, расход очень большой. Вот я и хочу, чтобы ты как можно быстрее ответил, что же делать с плитой. Так дальше жить нельзя. Но и 15 марок отдать за какую-то негодную плиту тоже не дело. Я по секрету поговорила еще с Китцау, он в таких делах знает толк, да только он не сказал ни да, ни нет. Я спросила, будет ли у нас уходить меньше угля, если мы отремонтируем плиту, так он говорит, что ничего гарантировать невозможно. Я им на фабрике устроила шум из-за плиты, дошла, хоть и не без труда, до самого Шрибеса. И потребовала: пусть они нам за свои денежки плиту отремонтируют, это же будет по справедливости, раз поселок наш фабричный. Но они там, наверху, ничего знать не желают. Шрибес позволяет себе разные непотребные вещи, гадкий человек. А беспокоится он лишь о своем собственном кармане. Получить бы только деньги в больничной кассе. Папа говорит, что они, может, и кинут тридцатку, но мне не верится — сквалыга Прайсинг ни гроша не даст. Так как же быть, ремонтировать плиту или нет? Ты получишь в больничной кассе еще сколько-нибудь, когда приедешь в санаторий, или тебе уже все выплатили? Здесь все говорят, будто ты от работы бегаешь, а жалованье прикапливаешь. Мне прямо проходу не дают, все от зависти лопаются. Так что ты выясни про это дело в больничной кассе. Фрау Прам говорит, пока ты болен, они не имеют права высчитывать с тебя проценты в больничную кассу, и ты, если не дурак, должен за этим проследить — так она сказала. У нас погода плохая, а какая в Берлине? До свидания. Твоя Анна.
Сразу же напиши ответ насчет плиты. Не ждать же до твоего возвращения. Плита так дымит, что глаза слезятся».
Держа это письмо ухоженными пальцами, Крингеляйн минут десять просидел на краю постели в глубокой задумчивости, но думал он не о Федерсдорфе, и не о жене Анне, и не о плите, и не о вчерашнем приступе болезни и своем страхе смерти. Он думал о другом. О самолете и о том, что его даже не затошнило, когда они поднялись в воздух. О пронзительном и прекрасном чувстве отваги и гордости, которое нахлынуло на него, когда над его головой в окне самолета вдруг показался накренившийся мир, а он не испугался.
«Сейчас я встану и пойду поговорю с Прайсингом», — подумал Крингеляйн и с этим решением вылез из кровати. Разговор с Прайсингом нужно было довести до конца, иначе все прочее теряло и смысл, и цель. Крингеляйн принял ванну, натянул на себя облик нового Крингеляйна — господина, одетого в шелковую рубашку, изящного покроя пиджак и преисполненного чувства собственного достоинства. Его сердце было твердым, как сжатый кулак, когда, подойдя к 71-му номеру, он открыл наружную дверь и постучал по светлому лакированному дереву внутренней.
— Войдите! — крикнул Прайсинг. Крикнул скорее машинально, но еще и по глупости, потому что на самом деле вовсе не хотел, чтобы кто-то его беспокоил во время завтрака с жизнерадостной Флеммхен. Но раз уж он сказал «войдите», дверь распахнулась. Явился Крингеляйн.
Его явление в номере Прайсинга было подобно взрыву, потрясшему Гранд-отель, и особенно его третий этаж — этаж приличной публики, не говоря уж о 71-м номере. Крингеляйн был в своей новой элегантной шляпе, которую надел лишь ради того, чтобы не снимать перед Прайсингом. И он не снял шляпу.
— Доброе утро, господин Прайсинг, — сказал Крингеляйн, небрежно коснувшись полей шляпы двумя пальцами. — Мне надо поговорить с вами.
От такого обращения Прайсинг окаменел.
— Что вам угодно? Как вы сюда попали? — спросил он, в изумлении уставившись на Крингеляйна в элегантном пиджаке, на Крингеляйна в фетровой флорентийской шляпе, на этого младшего бухгалтера Крингеляйна из конторы по начислению жалованья, на его лицо, решительное, словно лик глашатая Страшного суда.
— Я постучал, вы ответили «войдите», — сказал Крингеляйн с поразительной легкостью. — Мне надо с вами поговорить. Разрешите сесть.
— Пожалуйста, — безропотно молвил Прайсинг, когда Крингеляйн уже опустился на стул.
— Если я помешал, прошу извинения у дамы, — весьма находчиво сказал Крингеляйн.
Флеммхен оживилась и приветливо ответила:
— Да ведь мы с вами знакомы, господин директор. Мы же танцевали с вами фокстрот, и так славно!
— Да, да, конечно. — Крингеляйн откашлялся. Сердце билось прямо у него в горле. Затем настало молчание.
Наконец генеральный директор произнес директорским тоном:
— Говорите же. В чем дело? У меня нет времени. Я собираюсь продиктовать фройляйн Фламм несколько писем, срочно.
Крингеляйн не сгорбился, как бывало раньше, при звуке директорского голоса. Правда, подходящее начало для разговора он нашел не сразу:
— Моя жена пишет, что у нас снова неисправна кухонная плита. А фабрика отказывается произвести за свой счет необходимые ремонтные работы. Это никуда не годится. Мы живем в фабричном поселке и квартирную плату вносим своевременно, она вычитается из моего жалованья. Следовательно, фабрика обязана заботиться, чтобы в домах поселка все содержалось в надлежащем порядке и чтобы мы не дышали дымом из-за неисправных дымоходов. — Так начал Крингеляйн разговор с генеральным директором.
У Прайсинга над переносицей появилось багровое пятно, однако он ответил, стараясь не потерять самообладания:
— Вам известно, что меня лично подобные вопросы не касаются. Если у вас есть жалобы, обращайтесь в строительную контору. Просто неслыханно — обременять подобными вещами меня!
Точка. Фраза была закончена. Но Прайсинг не удержался и добавил:
— Строишь для людей поселок, а они, вместо благодарности, наглеют. Просто неслыханно.
Прайсинг встал, однако Крингеляйн не двинулся с места.
— Прекрасно. Оставим это, — бросил он небрежно. — Вы считаете, что можете позволить себе оскорбительные выражения. Но я этого не потерплю. Вы думаете, что вы лучше других людей. А вы самый заурядный человек, господин Прайсинг, даром что жена ваша богачка и живете вы на вилле. Вы самый заурядный человек, и так, как вас, никого больше не бранят в Федерсдорфе. Вот вам правда.
— Меня это не интересует. Меня это абсолютно не интересует. Уходите! — крикнул Прайсинг.
Но Крингеляйн обнаружил в своей душе такой капитал силы, о каком и не подозревал. Двадцать семь лет подневольного существования нашли выход в словах. Крингеляйн был заряжен электричеством, словно динамо-машина.
— Нет, интересует, — ответил он. — Такие вещи вас очень даже интересуют. Иначе почему на вашей фабрике полным-полно доносчиков и шпионов? Эти ваши лизоблюды — Шрибес, Куленкамп, все эти мерзавцы, подонки, которые топчут ногами тех, кто ниже по положению, и лебезят перед начальством! Стоит кому-нибудь хоть на три минуты опоздать — они уже доносят. Они и к служащим втерлись в доверие, об этом всей фабрике известно. А когда ты работаешь как проклятый, из последних сил, губишь свои легкие, то этого никто не замечает. Как же, ведь хозяева за это платят. А можно ли на такие деньги жить по-человечески, вам дела нет, господин Прайсинг. Вы-то разъезжаете в автомобиле, а мы резиновые калоши купить не можем. А когда из тебя выжмут последние соки, когда состаришься, никто о тебе не позаботится. Старик Ханнеман проработал на фирме тридцать два года, а теперь сидит без гроша. Пенсию не получает, зато катаракту на обоих глазах заработал.
Если бы Прайсинг действительно был свирепым тираном — а именно таким рисовался его образ воображению мелкого служащего Крингеляйна, — он немедленно вышвырнул бы вон дерзкого бухгалтера. Но Прайсинг был порядочным, доброжелательным и неуверенным в себе человеком, он ввязался в дискуссию: