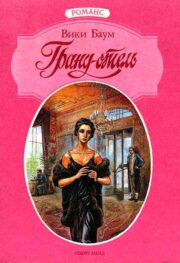Крингеляйн встал и начал ходить по комнате, бесшумно ступая худыми ногами в новых домашних туфлях, сильно скосив глаза от волнения. Мысленно он видел, как Прайсинг идет по коридору в третьем корпусе «Саксонии», где находилось правление фирмы, идет и никому не отвечает на поклоны. Он слышал, как наяву, холодный гнусавый голос, раздававшийся во время совещаний о тарифах заработной платы, он чувствовал, как стены трясутся в минуты, когда на генерального директора находил один из приступов гнева, которых боялась вся фабрика. Крингеляйн остановился у окна; глядя на задернутые занавеси, он видел перед собой Федерсдорф.
— Это должно было случиться. Это должно было случиться, — сказал он наконец, и щуплое тельце мелкого подневольного человечка наполнилось радостью: справедливость восторжествовала. — Пришла его очередь! Его арестовали? Откуда вы вообще обо всем узнали? Как это случилось?
— Прайсинг был у меня в номере. А дверь была открыта. Потом он вдруг сказал, что ему что-то послышалось. И ушел. Я на минутку заснула, наверное. Потому что мне все время очень хотелось спать. А потом я услышала голоса, но они были совсем не громкие, а потом что-то упало на пол. Прайсинг все не возвращался. И тут мне стало не по себе, и я пошла в тот номер — дверь же была не заперта. И там он лежал. С открытыми глазами. — Флеммхен опять натянула одеяло повыше, закрыла побелевшее лицо и заплакала, во второй раз изливая в слезах печаль по убитому Гайгерну. Она не умела выражать свои чувства, но на сердце у нее было так, словно она вдруг лишилась чего-то чудесного, чего-то, что больше уже никогда, никогда не вернется. — Вчера он со мной танцевал и был такой милый! А теперь его нет, и он никогда не придет, — плакала Флеммхен в теплой темноте пухового одеяла.
Крингеляйн отошел от занавешенного окна, откуда открывался вид на ненавистный Федерсдорф его воспоминаний, и сел на краю кровати. Он даже обнял Флеммхен за плечи — Крингеляйну казалось, что вполне естественно вот так утешить и защитить плачущую девушку. Ему тоже было жаль Гайгерна, Крингеляйн грустил молчаливой суровой грустью — по-мужски, хотя так до сих пор до конца и не осознал, что его вчерашний друг сегодня мертв.
Наплакавшись, Флеммхен вновь стала рассудительной и деловитой, что было свойственно ее натуре.
— Может быть, он и правда хотел его ограбить. Но нельзя же за это убивать! — сказала она тихо.
Крингеляйну вспомнилась загадочная история с бумажником, которая произошла минувшей ночью. «Ему были нужны деньги, — подумал он. — Наверное, он весь день пробегал в поисках денег. Смеялся и любезничал, а сам, наверное, сидел без гроша. Может быть, он и решился на какой-то отчаянный шаг. И этот Прайсинг, такой вот Прайсинг его убил…»
— Нет, — сказал он вслух.
— Сегодня утром ты все правильно говорил Прайсингу, — сказала Флеммхен, тихонько покачиваясь из стороны в сторону. Она даже не заметила, что снова перешла на «ты». Ей казалось, что они с Крингеляйном давно знакомы, и в этом не было ничего странного. — Прайсинг мне сразу не понравился, — наивно добавила она.
Несколько минут Крингеляйн обдумывал жестокий вопрос, который еще со вчерашнего дня тревожил его сердце, с того времени, когда Флеммхен ушла вслед за Прайсингом из танцевального зала.
— Почему же ты… Почему же ты с ним пошла? — наконец задал он этот вопрос.
Флеммхен доверчиво поглядела ему в глаза.
— Из-за денег, разумеется, — ответила она просто.
И Крингеляйн сразу понял.
— Из-за денег, — повторил он. Не переспросил, а именно повторил. Жизнь самого Крингеляйна была битвой за мелкие гроши, так разве мог он не понять Флеммхен? Он обнял ее обеими руками, заключил в кольцо, и Флеммхен сжалась и положила голову ему на грудь; под тонким шелком пижамы она чувствовала тощие ребра Крингеляйна.
— Дома меня не понимают. Дома все плохо. С матерью и сводной сестрой вечно одни неприятности. Я уже больше года сижу без постоянной работы. Надо же как-то начинать. Говорят, что для службы где-нибудь в конторе я слишком хорошенькая. У меня из-за этого везде выходили скандалы. Крупные фирмы не любят брать на работу девушек, которые слишком хорошо выглядят, и это правильно. В манекенщицы я не гожусь, слишком крупная, а им нужен сорок второй размер, в крайнем случае сорок четвертый. А киностудия… ну, я не знаю, что там у них… Наверное, я недостаточно кокетлива. Потом-то это ничего, даже хорошо, а вначале надо кокетничать. Но я еще пробьюсь. Я пробьюсь. Только вот стареть нельзя, мне уже девятнадцать, время идет, как бы не опоздать. Говорят, из-за денег нельзя связываться со всякими генеральными директорами. Наоборот — только из-за денег и стоит связываться! И я ничего, ну ровным счетом ничего приятного в этом не нахожу. Я же все равно остаюсь такой, какая я есть. Не убудет меня, если я с кем-то проведу время. Когда целый год нет работы и бегаешь на актерскую биржу или по объявлениям, и белье износилось, и надеть нечего, а ты видишь, какие вещи лежат на витринах, — я не виновата! Я хочу хорошо одеваться, такой у меня идеал. Новое платье — это же такая радость, ты себе не представляешь! Иногда целый день придумываю, какие я хотела бы иметь новые платья. И еще, я обожаю путешествовать. Путешествия! Куда-нибудь поехать, посмотреть другие города… Дома все плохо, уж можешь поверить. Я не нытик, у меня хороший характер, я терпеливая. Но иногда прямо так и бежала бы из дома куда глаза глядят. С первым встречным паршивцем. Из-за денег… Ну да, конечно, из-за денег. Деньги очень, очень много значат, а кто говорит, что это не так, тот врет. Прайсинг обещал мне тысячу марок. Большие деньги. На них я какое-то время перебилась бы. А теперь этого не будет. Опять осталась ни с чем. А дома просто кошмар.
— Знаю. Представляю. Очень хорошо все представляю, — сказал Крингеляйн. — Дома одна дрянь. Только имея деньги, можно жить по-человечески. Даже воздух не такой, каким он должен быть, если нет денег. Нельзя проветривать комнаты, как же, ведь тепло уйдет! Нельзя мыться вволю, потому что горячая вода — это расходы на уголь, опять-таки деньги. Бритвенные лезвия у тебя старые, бриться трудно. На белье экономишь — скатерти нет, салфеток нет. На мыле тоже экономишь. Щетка для волос давно вытерлась, кофейник треснул, пришлось залудить, ложки черные. В подушках комья, потому что они старые, из дрянного пера. Сломанные вещи так и не отдашь починить, не на что. Да еще плати страховку. И ведь не подозреваешь даже, что живешь не так, как надо, думаешь, так все и должно быть.
Крингеляйн прижался щекой к затылку Флеммхен. Так они вдвоем служили литургию бедняков, мерно покачиваясь в такт монотонным словам. Оба были уставшие и перевозбужденные, оба как в полусне.
— Маленькое зеркальце разбилось, — подхватила Флеммхен, — а новое купить — нет денег. Спать приходится за ширмами на раскладушке. В комнате все время пахнет газом. С квартирным хозяином что ни день — ругань. Попрекают едой, ведь ты не можешь дать денег на продукты, когда нет работы. Но меня не одолеют, нет, не одолеют, — вдруг упрямо сказала Флеммхен, высвободившись из рук Крингеляйна, и села в постели так резко, что одеяло чуть не свалилось на пол. Теплая, с юной кожей — Крингеляйн ощущал ее тепло как чудесный, драгоценный подарок. — Я пробьюсь, — сказала Флеммхен и в первый раз за все время сдунула со лба прядь волос. Это было как бы знаком того, что к ней снова вернулись легкомыслие и внутренняя жизненная сила. — Не нужен мне генеральный директор. Я и так пробьюсь.
Крингеляйн перебрал целую цепочку трудных мыслей, а дойдя до ее конца, попытался выразить мысли словами.
— Вот это, насчет денег — я это заметил только в последние дни, — заговорил он запинаясь. — Становишься совсем другим человеком, когда у тебя есть деньги, когда можешь что-то себе купить. Но что можно купить такое — я не подозревал.
— Что — «такое»? — Флеммхен улыбнулась.
— Ну… Такое. Такое, как ты. Такое… Совершенно прекрасное. Такое великолепное. Люди вроде меня даже не догадываются, что на свете есть такое. Мы ничего не знаем, не видим, а думаем, что все — брак и все остальное с женщиной — должно быть убогим, жалким и безрадостным. Или второсортным, как здесь, в Берлине, в разных заведениях. Но когда ты сейчас лежала тут без сознания, я почти не осмеливался смотреть на тебя. Господи, как это красиво. Господи, Господи, Боже, как красиво! И это существует, подумал я. Господи, это существует, чудо существует, чудо…