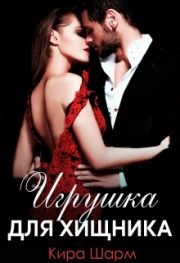Гребок, еще, — и вот, поймал, в руке уже у меня бьется.
— Держись. Твою мать, только держись! — ору, чуть легкие не выворачивая, но все равно, она же не услышит. Тут рева столько — от волн, от ветра этого гребанного, что оглохнуть можно! Блядь, только бы живая! А я дотащу…
— Что ты творишь! Что ты, мать твою, творишь??? — валимся на скалы, — живая, отплевывается, головой мотает из стороны в сторону. А я ору, как сумасшедший, и разорвать ее на хрен сейчас готов.
Сам не понимаю, как замахиваюсь, — но рука, вместо того, чтоб пощечину дать, в волосы ее перепутанные почему-то зарывается. Дергаю на себя, — и губы ее соленые, мягкие, дрожащие, под своими чувствую.
— Прости, — жадно, судорожно шепчет, обжигая меня всего изнутри, по губам моим лихорадочно скользя своими, впиваясь в кожу под футболкой. — Прости, я просто прогуляться захотела, подскользнулась, и…
— Убил бы, — хриплю, а губы уже впиваются в нее, — и обжигает меня всего. Насквозь обжигает, — и не буря, не ураган уже внутри, а взрывы бешенные, огненные, ослепляющие. Ничего уже перед глазами не вижу, только ее вкус сумасшедший, с солью смешанный, выдохи ее пью, — и наглотаться ими не могу, стонет тихонько, язык мой своим дразнит, — и волосы рвет, судорожно хватаясь, ногами спину мою обвивает.
И рвет, рвет, — не снаружи, не футболку на мне пальцами своими судорожными, — меня рвет на ошметки, до рокота внутри, до дрожи, в тысячу вольт бьет одними губами этими, вздохами этими сумасшедшими, сладкими. Зверя во мне рвет, без кожи оставляет.
С ума схожу, лихорадочно гладя ее волосы, костяшками проводя по скулам, сам не замечаю, как срываю эту красную с нее тряпку, растирая ее упругую, налитую, такую нежную, покрывающуюся мурашками под моими руками грудь, как соски ее безумно ласкаю, заострившиеся, потвердевшие, напряженные.
Толкаюсь вперед между ее распахнутыми ногами и стоном выдыхаю в ее губы.
Вжать ее в себя хочу, — до боли, до хруста, вжать, впечатать в себя без остатка, чтобы не отделилась больше, чтобы вся со мной слилась.
И мечусь уже губами лихорадочно по всему ее телу, пальцами по мягким податливым губам, — зверея, теряя чувство реальности, — только ее вкус, только ее кожа, только вздрагивания эти легкие, еле заметные под моими губами, — а для меня они сильнее, чем весь ураган вокруг нас…
— Артур, — всхлипывает, и ноги на моей спине сжимает.
И я замираю вдруг, — и новый ток насквозь простреливает.
Волны накрывают, обдают нас выше головы, — а мы будто и не замечаем, дрожим и с ума сходим, вжавшись телами.
Отрываюсь от ее ключиц, голову вверх поднимаю и всматриваюсь в потемневшее серое небо в глазах. Скулы рукам и обхватываю и пью, — пью глаза эти невозможные.
— Не останавливайся, — шепчет, в руку мою вцепившись.
— Пойдем, — будто со стороны слышу свой, совсем чужой хрип. — А то нас здесь накроет.
И я говорю совсем не о волнах сейчас.
Подхватываю ее на руки, в себя вжимаю.
Дрожит вся, маленькая, как котенок, легкая, как перышко.
Хотел бы знать, от чего, — от воды ледяной, от страха, который пережила только что, или…
от того, от чего сердце мое сейчас из груди готово выскочить.
Распахиваю ногой дверь, заношу свою ношу на кухню, — и оторвать от себя не могу. Сердечко ее маленькое прямо в мою грудь так часто бьется, — а я ловлю каждый удар и вместе с ним опять теплом, жизнью наполняюсь. И отпускать ее надо, а только сильнее к себе прижимаю. Кажется, — все рухнет, если оторву от себя. Дом вокруг на куски развалится и на меня ошметками полетит. И придавит своей тишиной оглушающей. На хрен придавит.
— Света, — усаживаю на стол, а сам глаз от нее не отрываю, и еще сильнее прижимаю к себе, пальцами по щеке провожу, — и снова током прошибает. Вот так, — от одного прикосновения. Легкого, на уровне ветерка. — Это все снять надо. Вода ледяная. Заболеешь.
— Надо, — и снова за шею меня к себе ручонками своими маленькими притягивает, губы снова своими губами ищет, — я уже, Артур, заболела. Тобой.
— Не надо, девочка, — до хруста ее запястье сжимаю. — Не надо. Ты бояться меня должна.
Что ж ты тянешься ко мне, глупая? Тянешься, а я даже оттолкнуться от тебя не могу!
— Убегать от меня должна, — вожу, вожу рукой по лицу и дрожу, как пацан от того, как голову запрокидывает, как тянется к пальцам моим. — Я же тебя отпустил. Ты же свободна.
девочка. Бурю пережди — и уезжай. С острова этого, от меня подальше. Уезжай и самому мне свободу отдай, — ведь могу иначе и не выдержать, вцеплюсь в тебя сейчас и уже не отпущу. Уже ведь, как наркоман зависимый, — от запаха твоего, от кожи твоей бархатной, от глаз твоих — живых, настоящих, наивных таких, глупых и таких искренних. Сколько живу, — глаз таких не видел.
— Мне что, самому с тебя это снимать? — поддеваю пальцами кромку ее шортов.
Улыбается, будто во сне, а сама мою футболку на мне вверх дергает, срывает, и ладонями к груди прижимается.
— Ты тоже… — задыхаясь, и грудь вздымается, часто-часто. — Простудишься.
А я даже усмешки не могу из себя выдавить, — смотрю на нее, как загипнотизированный и только воздух со свистом из меня выходит.
— Света…
— Сними… Сними с меня это. Ты. Сам. Пожалуйста, — и сама, руками своими к ремню моему на поясе тянется. Дергает, — задубел мокрый джинс, не расстегивается, а она все дергает и дергает дрожащими руками. И глаз от моих не отводит.
— Хватит, Света. Все. Хватит.
Хватаю ее руки и опускаю на стол. Ступни ее за спиной у себя ловлю, — ледяные, дрожащие. Растереть пытаюсь, а она — дергает, вырывает из рук, снова обхватить меня ногами своими длиннющими пытается.
— Света, ты знаешь, что с тобой было? — уже нависаю над ней, угрожающе, тяжело. Выплевываю слова, как пощечину, — нельзя сейчас иначе, протрезветь нам обоим надо, а иначе — не выйдет.
— Я знаю. Мне Аля сказала. Меня изнасиловали.
— Ты шарахаться от мужчин должна, — прижимаю ее к столу, практически на него опрокидывая.
— Ты… Это другое… — ни капли страха в глазах, ничего, — только блеск и открытость, распахнутость. — Я же не должна теперь всю жизнь… Ты же — другой…
— А если скажу, что это я сделал? — еще больше нависаю, почти впечатываюсь.
— Ты… Нет… Ты не такой… Я доверяю тебе… Все доверяю, — и снова ладонями плечи мои обхватывает, ласкает, — до жара, до треска по коже.
— Так, все, Света, — стискиваю челюсти. Хватит. У тебя стресс и вообще… Не будет у нас ничего. Все закончилось. Вернее, даже ничего не начиналось. Снимай с себя мокрое, я сейчас полотенца принесу. И чай горячий приготовлю.
Сам себя от нее отрываю, — и это в тысячи раз сложнее, чем ее руки отвести. Сам. И трясет меня до рычания бешенного.
Блядь! Откуда в моем доме столько ненужных на хрен вещей под ногами??? Раз сто наталкиваюсь на тумбочки какие-то дурацкие, сшибаю их на хрен, пока до ванной дохожу за полотенцами.
— На, — даже не смотрю на нее, до сих пор так и сидит на столе.
Распахнутая.
Ноги только под стол прижала, а так и опирается на стол локтями. И кожа ее в темноте тусклой белеет. Белыми светящимися шарами грудь светится.
— Света, я не смотрю, — не смотрю, да, но спиной чувствую, и пять чашек разбиваю, пока чайник ставлю. — Или иди к себе. Там переоденешься, ванну горячую прими. Света!
Я сейчас орать на нее начну! Материться и орать! Блядь, — ну, что она вытворяет!
— Тебе тоже надо. Согреться, — всхлипывает. Обиделась, кажется.
— Я другим согреюсь, — с грохотом ставлю перед ней чашку и, подхватив бутылку с виски, ухожу к себе.
Быстро ухожу, как будто убегаю.
От себя? От нее? Неважно. Какая на хрен разница?
И злюсь бешено, безумно, — на обоих.
— Блядь! — луплю кулаком по стене. — Что у нас, на хрен, происходит?
Почему не уехала? Зачем осталась?
Соблазнить Тигра хочет, зверя приручить надеется?
А если не забыла ничего, если притворяется, — то в чем ее гениальный план?
Ручным меня сделать хочет?
Блядь, да каждый, кто хоть что-то про меня знает, — знает и то, что я не для отношений!
Я же ее придушу, дурочку, — рано или поздно придушу ведь!
Взбесится зверь, набросится, — и уже не пожалеет, не остановится, — разорвет!