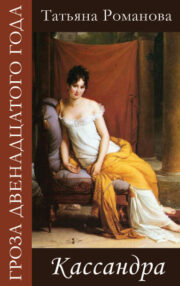Какой несерьезной казалась графу теперь его прежняя грусть о ранней смерти матери, о безразличии отца, о своем одиночестве. Об этом мог убиваться только человек, не знающий, что такое действительно плохо. Михаил теперь знал, что это такое. «Плохо» — это когда ты из сильного молодого мужчины превращаешься в беспомощное существо. «Плохо» — когда жизнь, которую ты так любил, службу, полную братской полковой дружбы и гордости солдата, сражающегося за Отечество на поле брани, у тебя внезапно забирают, ничего не дав взамен. Кто он теперь в свои двадцать восемь лет? Никто — обуза, тяжкий крест для близких. Конечно, Серафим возился с другом все эти месяцы, но нельзя же висеть мельничным жерновом на шее бедняги, тому нужно устраивать собственную жизнь.
За полтора месяца, что они прожили на озере Комо, у Серафима появились новые пациенты, которые специально ехали сюда из Италии и Швейцарии, чтобы лечиться у доктора, поднимавшего на ноги, казалось, безнадежных больных. Михаил различал воодушевление в голосе друга, рассказывающего о своей новой клинике, под которую тот снял дом в центре маленького городка, носящего то же имя, что и озеро. Теперь Серафим пропадал в клинике до позднего вечера и виделся с Мишелем только за ужином. Но сегодня, ради дня рождения графа, друг сделал исключение из правил и сам повел того на прогулку по большому саду, окружавшему виллу, где они жили.
— Я больше не беспокоюсь за легкое, — рассуждал доктор, направляя Михаила по дорожке, сбегающей к озеру. — Но вот с контузией я не знаю, что делать. Все, что связано с глазами, не повреждено, кажется, что проблема психологическая, как будто ты сам не хочешь что-то видеть.
— Ты шутишь, я бы все отдал за то, чтобы зрение вернулось ко мне, — возразил Печерский, — ты даже не представляешь, что это такое — быть сильным, здоровым мужчиной, и одновременно совершенно беспомощным.
— Это — преувеличение, — не согласился с ним друг, — ты так поддался депрессии, что я больше не назвал бы тебя сильным мужчиной. Я много раз говорил с тобой о восстановительной гимнастике, но ты не хочешь ничего делать, только часами сидишь на скамье в саду.
— Я не хочу ничего делать, пока не прозрею, — признал его правоту Михаил. — Зачем мне физическая крепость и сила, если я не могу самостоятельно пройти по комнате?
— Как хочешь, человека невозможно заставить, пока он сам чего-то не захочет, это я как врач тебе говорю. — Серафим замолчал, остановившись у кромки воды, к которой вели широкие ступени, потом искоса глянул на друга и сказал: — Я хочу тебе кое-что рассказать. Это касается меня. В первые дни после нашего приезда у меня появилась первая пациентка — Людовика Берг, ее отец был бароном, но после смерти родителей она живет с тетей, графиней фон Штрау. Когда девочке было десять лет, ее мать умерла от чахотки, сейчас Людовике восемнадцать, и у нее нашли ту же болезнь. Я взялся лечить девушку, и поскольку болезнь была выявлена в начальной стадии, мне удалось затормозить процесс ее развития, а сейчас я занимаюсь укреплением организма Людовики, чтобы он сам мог противостоять болезни.
Серафим замолчал, не решаясь перейти к главному, но друг уже понял его.
— Ты влюбился? Это же замечательно! — обрадовался Печерский. — Я уверен, что девушка ответит тебе взаимностью. Кого же любить, если не тебя? Ты ведь весь состоишь из достоинств: красив, умен, порядочен, много зарабатываешь. Пациенты приезжают со всего света, только бы лечиться у тебя, а это что-то да значит. А самое главное, ты — самый верный человек, какого я знаю. Любая женщина будет счастлива рядом с тобой.
— Ты не объективен, — грустно заметил Серафим, — ну какой из меня красавец — рыжеватый, глаза неопределенного цвета.
— Не может быть! — удивился Михаил. — Ты не можешь так думать, нужно быть слепым, чтобы так воспринимать себя. Не мог же ты так измениться, с тех пор как я перестал видеть.
Печерский всегда искренне считал, что высокий, широкоплечий Серафим с тонким, правильным лицом и большими, светлыми, серовато-зелеными глазами красив неброской, но очень благородной северной красотой. Ему и в голову не могло прийти, что друг считает себя некрасивым.
— Бог с ней, с красотой, — смутившись, перевел разговор Серафим, — дело в другом. Понимаешь, мне кажется, она не любит меня, а только чувствует благодарность за излечение, принимая ее за любовь. А я люблю Людовику, и боюсь ее разочарования во мне. Второй раз мне этого не вынести.
— Ты говоришь о матери? — осторожно спросил Михаил, для них это всегда было запретной темой, и он не знал, что можно спросить, не растравив раны друга.
— Понимаешь, я ведь помню, что мама когда-то была другой. Она родила меня в шестнадцать лет, и сама еще была ребенком, не зная, как общаться с сыном. Но она не отталкивала меня, а была ласковой, играла со мной, я даже помню, как Саломея пела мне колыбельные песни. А потом родился Вано, и все изменилось. Ее как будто подменили. Я очень мучился, и все мое детство прошло в попытках доказать матери, что я достоин ее любви. Но ничего так и не получилось. Ты знаешь, она постоянно высмеивала меня, мои поступки и желания. Однажды, когда мне было лет семь, я подслушал разговор Заиры с матерью. Заира рассказывала о том, что я, упав, разбил коленку, а потом проплакал весь день, а мама зло сказала, что я — такое же ничтожество, как мой отец. Самое ужасное для меня было то, что я вообще не разбивал коленку и не плакал. Но я так и не решился спросить Заиру, зачем она соврала, выставив меня плаксой.
— Скорее всего, защищала будущее своего внука, — предположил Михаил, и добавил: — Тогда уж и я расскажу тебе, как однажды слышал, что Заира с восхищением говорила Саломее, насколько Вано похож на мать, весь — и внешностью, и характером вылитая она, и тут же стала сетовать, что ты весь пошел в своего отца. Но тогда Саломея ничего ей не ответила.
— Наверное, ты прав, Заира настраивала мать против меня, чтобы и любовь, и блага достались только ее внуку. Нужно признать, что ей это удалось, — заметил Серафим. — Но это все в прошлом. Что мне делать с сегодняшним днем?
— Ты сам говоришь, что любишь девушку, рискни, позволь, наконец, и себе стать счастливым. Объяснись с Людовикой, и постарайся понять, что ею движет, — предложил Михаил. — Вы даже можете объявить о помолвке, но не спешить со свадьбой.
— По-твоему, меня можно полюбить ради меня самого? — с мучительным сомнением спросил Серафим.
— Да, — твердо сказал Печерский, — именно ради тебя самого. Никто не достоин любви так, как ты.
— Если бы все в жизни делалось по справедливости, мы бы жили в другом мире, — засмеялся доктор, — но я попробую последовать твоему совету. Мне пора. А ты что будешь делать?
— Отведи меня в беседку, — попросил Михаил.
Друг выполнил его просьбу и оставил графа в беседке, увитой лозой дикого винограда в самом дальнем конце сада, где Михаил проводил многие часы. Граф запретил и Аннет, и Сашке приходить к нему, если не нужно было отправляться в дом. В одиночестве молодому человеку было лучше. Он сидел, подставив лицо лучам уже холодного, почти зимнего солнца, и перебирал в памяти воспоминания. Граф вспоминал боевых друзей, Алексея Черкасского, дядюшку и кузин, но больше не разрешал себе думать о маленькой цыганке из английского поместья. Теперь он был недостоин этой девушки, она должна была стать счастливой без него.
Михаил вернулся мыслями к сегодняшнему разговору с другом. Тот назвал его слабым человеком. Действительно, Серафим уже много раз начинал разговор о необходимости заняться восстановительной гимнастикой. Но Михаил не видел в этом пока никакого смысла. Зачем становиться богатырем, если ты все равно не можешь шагу ступить без посторонней помощи. Но может быть, Серафим прав, и дело не в физической крепости, а в том, что Мишель опустил руки и сдался, позволил беде взять над собой верх? Он уже больше не верил, что когда-нибудь прозреет. В нем умерла вера, потом его покинула надежда, а любовь граф сам выгнал из своего сердца, запретив возвращаться. Граф Печерский поставил на своей жизни огромный, жирный, черный крест и больше ничего не хотел.
Вздохнув, молодой человек поднялся и, ощупью держась за столбики беседки, спустился с крыльца. В четырех шагах от беседки начиналась высокая каменная стена, отделявшая их сад от территории соседней виллы. Держась за стену, он мог ходить самостоятельно. Последнее время граф делал это все реже и реже, но сегодня, пристыженный словами друга, решил все-таки походить вдоль стены. Сделав первые шаги, Михаил остановился, ему показалось, что с той стороны ограды, где никого никогда не было, он услышал шаги. Действительно, по саду кто-то ходил. Обостренным слухом незрячего граф различил шаги двух человек. Скорее всего, шли женщины, песок под их ногами тихо шуршал, значит, на женщинах были легкие туфли без каблуков. Женщины подошли почти вплотную к стене, у которой он стоял, а потом скрипнули деревянные ступени.