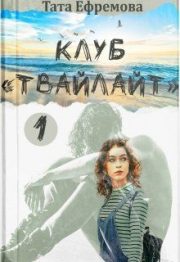— О, — сказала я.
Мы помолчали. Я собиралась с духом, чтобы сказать твердое «нет». Черт с ней, с комиссией. Черт с ним, с грантом. Жила я скромным журнальным автором и проживу дальше. И вообще, не хочу видеть своих героев трансгендерами. Норкин говорил что-то о каких-то потерянных элементах, повторял «Мозаика. Видите ли, пазл». Я кивала. Раскрыла рот, но тут нас отвлекли.
Кто-то вошел, дверь на старой скрипучей пружине под ложами громко ухнула.
— Простите, вы ко мне? — раздраженно крикнул режиссер, вглядываясь в проход между рядами.
— Нет, Велиамин Родионович, — весело ответили сверху.
— Ах, это вы, Ренат Тимурович — Норкин вдруг расплылся в улыбке. — Добро пожаловать в нашу скромную театральную обитель. Как поживаете?
— Хорошо поживаю, — ответил озорной голос.
Я обернулась, вежливо кивнула. Свет выносного софита слепил глаза, я с трудом разглядела вошедшего. Это был высокий молодой человек, широкоплечий с неуловимо знакомой походкой. Он спустился, всё еще в ореоле от софита. Молодой человек широко улыбался, повернув ко мне голову. Я улыбнулась в ответ, удивленная восторженным вниманием незнакомца. Норкин тряс подошедшему руку, молодой человек поглядывал в мою сторону, я собиралась с духом:
— Велиамин Родионович, я понимаю, что…
— А это, Вера Алексеевна, позвольте представить — мой практически коллега Ренат Тимурович. А это наш автор Вера Алексеевна Мутко…
— Я хорошо знаком с Верой Алексеевной, — мягко вымолвил «практически коллега».
Он опять заулыбался, словно умиляясь моему смущению, «смуглый вьюнош востроглазый» (как любит выражаться Валера), с красивыми восточными чертами лица. Я всмотрелась в молодого человека и вдруг…
— Ренат, Ренат Муратов, боже мой! Я же совсем тебя не узнала!
— Вера Алексеевна!
— Ренатик, дай я тебя обниму. Как ты изменился! Повзрослел! Но взгляд тот же! Хулиганский! Прическу только поменял.
— Вера Алексеевна, а вы совсем не изменились. Стали еще красивее.
— Ой, Ренатик, Ренатик, мило врешь и не краснеешь. Все, как раньше. Девять лет прошло с вашего выпуска, ведь так?
— Да.
— Это мой бывший студент, — объяснила я Норкину, улыбающемуся удивленно, но терпеливо-сдержанно. — Лучший выпуск. Я преподавала у них историю искусства.
— Замечательно, — пробормотал режиссер. — Однако же…
— Да-да, Велиамин Родионович, конечно… По поводу пьесы… — начала я.
— По поводу пьесы, — вдруг повторил за мной Ренат. — Вера Алексеевна, могу я взять на себя смелость и переговорить с Велиамином Родионовичем тет-а-тет, так сказать? Всего пара минут.
Я кивнула. Раскрыв рот, смотрела, как Ренат берет Норкина под руку и отводит к сцене. Мне послышалось? Мой бывший студент упомянул мою пьесу? Норкин тоже выглядел изумленным. Ренат что-то ему втолковывал. Лицо у режиссера сначала вытянулось, потом сморщилось, потом разгладилось, и он затряс собеседнику руку.
Сумка беззвучно завибрировала. Я выудила из нее мобильник, ответила на звонок Валеры:
— Что?! Зая, я не могу! Ты же знаешь, я на встрече!
— Тебе на домашний раз пять звонил какой-то Ренат, — возбужденно затараторил муж. — Сказал, что это по поводу постановки «Любви Дель-арте». Очень жаждал услышать знаменитую Веру Мутко и переживал, что не застал тебя дома. Ему в отделе культуры дали только твой домашний. Он оставил свой номер. Продиктовать? Верочка, мне кажется, он хочет поставить твою пьесу! Это ж надо! За тебя идет борьба! Я же говорил! Соглашайся на все! Лишь бы не Норкин! Номер продиктовать?
— Зая, не надо ничего диктовать. Он здесь. Это мой бывший студент. Ренат, помнишь, я тебе о нем рассказывала?
— Из той самой театральной группы?
— Да. Ой, Зая, не могу говорить. Перезвоню, как только будут новости.
Ренат уже поднимался ко мне по ступенькам. Я невольно им залюбовалась. Он окреп, возмужал, но остался таким же гибким, стремительным, и этот его внимательный, гипнотизирующий взгляд…
В университете Муратов был «золотым мальчиком», «плохим парнем» и большим специалистом по разбиванию девичьих сердец. Сколько слез было из-за него пролито! До четвёртого курса Ренат ходил в компании трёх таких же задиристых друзей. Они доставали всех подряд. Вечные драки в клубах, пьянки в общежитии, гремевшие на весь университет. А потом все изменилось… Как я могла забыть?! Как же я могла забыть об истории, свидетельницей которой случайно стала?!
Я никогда не воспринимала Муратова как мальчика-мажора. С того самого дня, как я увидела их всех перед собой, студентов, пришедших на прослушивание добровольно и загнанных туда деканом, откровенно скучающих и заинтересованных, серьёзных и легкомысленно настроенных, я уже предполагала, что Муратов записался в студенческую труппу не из-за любви к опере и театру и не по моему настоянию, хотя Ренат был щедро одарен природой, во всем: внешности, уме, голосе. Я помню его руки, крупные, нервные, жилистые, и сумасшедшие глаза с темной радужкой, наполовину скрытой веками, словно растущая луна: жизнь, страсть, вера, тоска. И вот, по прошествии лет, Муратов каким-то образом связал свою жизнь с театром. Сейчас узнаем, каким.
Ренат на ходу развел руками, подошел и покаянно склонил голову. Норкин остался у сцены. Он говорил по телефону. В мою сторону режиссер не смотрел.
— Вера Алексеевна, я, наверное, ужасно самонадеян. Но вы не представляете, что я почувствовал, когда узнал, что вашу пьесу… — Ренат оборвал предложение на середине и бросил взгляд на Норкина. — Мы можем где-нибудь спокойно обсудить этот вопрос?
— Ренатик, — сказала я, — у меня не окончен разговор с Велиамином Родионовичем.
— Окончен, — мягко возразил Муратов. — Велиамин Родионович не будет ставить «Любовь Дель-арте»… Как насчет замечательного кафе на набережной? Только что открылось. Какой там штрудель!
— Ренат… — начала я.
— Я осмелился поговорить с вашим мужем — вы не хотите, чтобы Норкин вас ставил. Штрудель, — сказал мой бывший студент, подхватывая меня под локоть и увлекая к выходу. — Вы не пожалеете. Здесь, недалеко, довезу с ветерком. Сегодня жарко, не правда ли?
Норкин махнул нам рукой, не отрываясь от телефона. И я с облегчением помахала ему в ответ, послушно следуя за Ренатом. В конце концов, что я теряю?
… Штрудель был хорош. Мы запивали его красным ройбушем, пахнущим африканской саванной. Я смотрела в окно на белые кораблики, застывшие на сапфировом полотне моря. Шум города, звон чашек о блюдца, крики чаек — среди всего этого многоголосия на меня вдруг нашел странный покой. Мне уже ни о чем не хотелось говорить, хотя полчаса назад я изнывала от любопытства. Пьеса эта, чего я так переживала? Вот пришел юноша из прошлой жизни, разом обрубил туго натянутые мои нервы, и они обвисли, как оборванные в бурю провода. Нет проводов — нет напряжения.
Ренат первым прервал молчание, совсем, однако, не казавшееся нам неловким или затянувшимся:
— А вы замужем. Поздравляю.
— Спасибо, Ренатик. Уже девять лет как.
— Рад за вас. Ваш муж очень приятный в общении человек. И очень терпеливый. Кто-нибудь другой просто послал бы меня сегодня утром, когда я обрывал ваш телефон.
— Мой муж — святой, — без всякой иронии согласилась я. — И все же, Ренат, как всё это… совпало? Как ты узнал о пьесе? Как получилось, что мы ни разу не встретились за эти годы? Ты ведь из Мергелевска?
— Из Альметьевска. Родители до сих пор там живут и братья, сколько уговариваю переехать к морю, ни в какую. А меня дядя взял, так сказать, под свое крыло, дал образование и путевку в жизнь, — Ренат кривовато усмехнулся. — Меня долго носило туда-сюда. Я здесь осел лишь пару лет назад, когда бизнес пошел в гору. А до этого где только не был!
— Женился?
Ренат взял ложечку и принялся водить ею по бумажной салфетке, вырисовывая узоры красными чайными каплями:
— Собираюсь, — ложечка выскользнула из пальцев и задребезжала на стеклянной столешнице. — Из нашей театральной группы почти все разъехались, многие в Москву подались. Я тоже там пожил, понравилось, но не прижился… Денис Брызгало — клипмейкер, может, видели рекламу моющего средства… ну…глупая такая, где у пленки жира в раковине появляются рот и глаза, и она начинает разговаривать: «Ты никогда не победишь меня в холодной воде!»