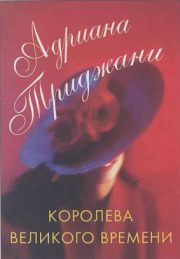Из окна нашего номера открывался живописный вид на Делавэрское ущелье, а перина была мягкая и высокая, как облако. Утром мы ели шоколад и болтали о нашем будущем. О детях и о том, что однажды мы поедем вместе в Италию.
В течение пяти лет мысли о Ренато всегда отдавались болью в моем сердце, и мое замужество не смогло сразу все изменить. Я не хочу любить Ренато, я не хочу испытывать к нему это чувство, но по какой-то необъяснимой причине оно не исчезает.
Я поднимаюсь по лестнице в церковь Богородицы на Маунт-Кармель — по субботам я часто хожу на исповедь.
Я никогда не приходила исповедаться, думая о конкретном священнике, с которым я буду разговаривать. Он для меня всегда был лишь проводником между мной и Господом. Поэтому мне было все равно, кто он. Но сегодня я знаю, кто меня будет исповедовать. Я знаю его голос. Когда он плакал, я прижимала его к себе. И в темную исповедальню — единственное место, где мы можем спокойно поговорить, — я хочу прийти чистой.
— Благословите меня, отец, я согрешила.
То ли Ренато не узнает мой голос, то ли притворяется. Он начинает молиться на латыни, но я его останавливаю:
— Ренато, это я, Нелла.
— Нелла? — шепчет он.
— Да, Нелла. Может быть, ты все-таки расскажешь, что с тобой произошло?
— Я хотел тебе все рассказать, когда поступил в семинарию, но потом решил, что лучше оставить тебя в покое.
— Лучше бы ты со мной тогда поговорил.
— Я не ожидал, что они меня сюда пошлют.
— Даже если бы они послали тебя в Китай, тебе бы все равно надо было мне все объяснить.
— Епископ так захотел направить меня сюда, что его невозможно было отговорить. Он мечтает открыть здесь католическую школу. И больницу. Он видит во мне второго отца Де Ниско.
Мне становится его даже жалко. Как бы я ни страдала из-за него, Ренато был действительно наказан очень сурово — его снова прислали священником в город, где он вырос и в котором потерял душевный покой.
— Письмо, которое ты мне оставил, было оскорбительным.
— Я находился в смятении. Я не хотел обманывать тебя.
— Если ты захотел стать священником, то должен был просто поговорить со мной, и все. Что я должна была думать все эти пять лет?
— Прости, Нелла! Прости. Я раскаиваюсь, что так поступил.
— Знаешь что? Какая ирония! Ты сидишь здесь, чтобы прощать людей. Так вот, я не могу тебя простить.
Сказав это, я встаю и отдергиваю бархатный занавес. Я долго стою перед церковью, прежде чем вернуться домой к своему суженому — Франко Цоллерано. Я в первый раз вышла из исповедальни без отпущения грехов.
Глава восьмая
Когда сообщили, что мистер Дженкинс скончался у себя дома, в Нью-Джерси, мы с Франко не удивились. К осени 1939 года Дженкинс передал управление фабрикой мне, да еще раз в месяц приезжал его сын Фредди, чтобы все проверить. Мистер Дженкинс пытался работать до самого конца, несмотря на слабое сердце, а потом и рак, но постепенно так ослаб, что уже не мог приезжать из Нью-Джерси в Розето. Он полностью доверил мне свое дело, и я старалась его не подводить.
Теперь у нас двое детей — шестилетний сын Франко-младший (мы зовем его Фрэнки) и двухмесячная Селеста. Мы с Франко мечтаем открыть собственную фабрику, но на то, чтобы накопить начальный капитал, уйдет еще несколько лет.
— Нелла, дорогая! — ласково будит меня Франко.
Я открываю глаза и вижу мужа и сына в верхней одежде.
— Который час?
— Двенадцать ночи, — хихикает Фрэнки и тянет меня за руку, чтобы я быстрее встала.
— Вы что, с ума сошли?
— Папа приготовил нам сюрприз, — объясняет Фрэнки. — И он не хочет говорить, что это.
— Одевайся, — говорит Франко. — Папа с мамой присмотрят за Селестой. К утру мы вернемся.
— Ладно, ладно.
Я натягиваю на себя одежду и спускаюсь вниз. Франко взял с собой термос и печенье.
— В путь! — говорит Франко, открывая дверь.
После нашего первого свидания Франко Цоллерано уже не раз преподносил мне самые неожиданные сюрпризы — мы часто ездили в какие-нибудь необычные места. Мне надо бы сообщить ему, что он перегнул палку, подняв нашего сына посреди ночи, но я молчу.
Скоро Фрэнки засыпает. Франко слушает радио и что-то насвистывает. Я гадаю, что же он придумал на этот раз.
— Дорогой, куда мы едем? — спрашиваю я, когда до Филадельфии остается несколько километров.
— Увидишь.
Франко тормозит на стоянке, позади автобусов и грузовиков. Когда он выключает двигатель, Фрэнки просыпается:
— Мы уже на месте?
— На месте. Пойдем, сынок.
Франко берет сына за руку и ведет по стоянке.
Я иду за ними и, обходя автомобили, понимаю, что мы приехали туда, где расположился цирк-шапито «Братья Ринглин, Барнум и Бейли».
— Смотри, сынок.
Посреди поля, как парашют, лежит брезент в бело-рыжую полоску. Вдруг звучат фанфары, и по пандусу спускаются три слона и три дрессировщика. Они встают по разные стороны от брезента. Один из дрессировщиков громко свистнул, а другой закричал: «Взялись!» Слоны обхватили хоботами шесты, и в считаные секунды над полем встал купол цирка.
Широко распахнув глаза, Фрэнки смотрит на происходящее, не в силах поверить в такое чудо.
— Они подняли купол, папа.
— Ага. Всю работу выполняют слоны, — отвечает Франко.
Я вижу, как радуются мои муж и сын. На глазах у меня застыли слезы. Франко смотрит на мир совсем не так, как я. Он любит показывать другим чудеса. Я плачу — не из-за того, что мой сын так восхищен, и не из-за того, что мне позволили увидеть настоящую любовь между отцом и сыном. Нет, я плачу о себе. Я верю только в то, что вижу, я не умею веселиться и, значит, не умею жить. Мне кажется, что я люблю по-настоящему, но это не так. Я не могу подарить своему мужу ощущение полета, а своим детям — ощущение чуда.
— Нелла, ты можешь в это поверить? — Франко смотрит на бело-рыжий купол, который теперь держится на шестах и готов к представлению.
— Это восхитительно, — тихо говорю я, и мы смотрим на вереницу животных, которые заходят под чудесный купол. Медведи, тигр, лев, а за ним слоны один за другим исчезают под брезентовым куполом.
— Я такого еще никогда не видел, — говорит Фрэнки отцу. — А ты, мама?
— Я тоже, — соглашаюсь я.
— Ты не пойдешь! Ты уже старый!
— Мне всего тридцать три года.
— Вот-вот — старый! — говорю я мужу, зная, что несколько жителей Розето уже вступили в армию и воюют против Муссолини и Гитлера.
— В армии так не думают.
— Я не хочу, чтобы ты уходил, — умоляю я, но Франко уже все решил.
— Тебе есть кому помочь. Пока идет война, твои родители не поедут в Италию, да и мои родные живут напротив. Я хочу сделать то, что велит мне мой долг, — говорит Франко.
— Долг должен велеть тебе остаться с женой и детьми.
— Им нужны механики. А на свете нет такой машины, которую бы я не смог разобрать и собрать заново.
— Пожалуйста, Франко.
— Нелла, если и есть такая женщина, которой не нужен мужчина, так это ты. — Он целует меня в лоб. — Я хочу показать сыну, как нужно любить родину, и я не смогу этого сделать, если останусь здесь и продолжу работать на фабрике.
Все члены семьи Паджано, Цоллерано, Кастеллука, наши дети и я едем в Нью-Йорк смотреть, как Франко будет принимать присягу. Ради детей я стараюсь казаться сильной, хотя Фрэнки уже сейчас считает отца героем, а Селеста слишком мала, чтобы понимать, что происходит.
Из многих семей в Розето мужчины ушли на фронт: младший брат Четти Оресте, двоюродный брат Франко Пол. Почти у каждой работницы с фабрики на войну ушел муж, брат или любимый. Мы все молимся о победе и о том, чтобы она пришла поскорее. Нам, итальянцам, приходится воевать со страной, из которой мы родом. Но у моего мужа нет никаких сомнений относительно Муссолини.
— Он должен уйти, — просто говорит Франко.
Франко целует на прощание отца с матерью, Фрэнки и Селесту. Потом обнимает и целует меня. Когда я иду с ним ко входу в здание призывной комиссии, он молчит. Впервые за все время нашего брака он молчит, а я болтаю без умолку. Я стараюсь собрать воедино все наши мечты, обещаю ему, что позабочусь о детях, что, когда он вернется, мы откроем свою собственную текстильную фабрику.