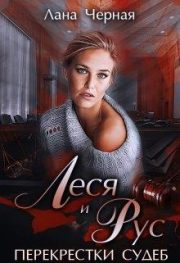— Спасибо, — отвечаю одними губами, не смотря на жену своего друга и ощущая, как мир расплывается перед глазами. Это нихрена не слезы, потому что мужики не плачут, но я торопливо поднимаюсь, целую свою Звездочку, наполняя легкие ее сладким запахом, в котором уже плетутся нити мандаринов, рассыпанных на постели.
Богдана поднимает на меня сияющее лицо:
— Спасибо, — по слогам повторяет она мои слова.
Щелкаю ее по носу, ловя ее смущенную улыбку. Она жмурится ненадолго, а потом возвращает внимание детворе, ловко очищая для них мандарины. Так, будто каждый день вот так проводит время. Будто эти трое — ее семья. Черт!
Ерошу волосы и спешу сбежать. От счастья, что искрится в каждом вдохе. От себя самого.
Айя тем временем шуршит пакетами, что-то весело рассказывая. А у меня в ушах только смех Богданы.
— Руслан, — уже в коридоре останавливает меня сорванный голос Эльфа. Смотрю в его синие глаза, в которых столько любви, что хочется надеть очки, потому что слепит. — Верни ее, — говорит едва слышно.
«Верни ее…»
Эти два слова торчат в голове всю дорогу до клиники, где работает Корзин. И пока я спрашиваю, где могу найти Сергея Васильевича, а медсестра провожает меня в ординаторскую.
Корзин стоит у окна и разговаривает по телефону. Я не пытаюсь вдуматься в его слова, напичканные медицинской терминологией, просто подхожу к столу и кладу перед ним документы.
— Подписывай, — спокойно, выдерживая его тяжелый взгляд. Он сворачивает разговор, прячет телефон в карман хирургической куртки.
— Вернулся, значит, — словно приговор вынес.
На долю секунды я удивлен, а потом ухмылка кривит губы. Он все знал: обо мне и Ксанке. Все эти годы знал. Наверняка и открытки видел, хотя, уверен, Ксанка сама ничего ему не рассказывала и не показывала. Потому что заперла в ящик и приволокла на порог «моего» дома в горах.
Корзин садится в кресло, смотрит документы. Откидывается на спинку, скрещивает на столе пальцы. Он здоровый мужик и я точно знаю, что хороший кардиохирург. А еще я знаю, что он предатель и что моя Земляничка не любит его, иначе не хранила бы мои письма. Иначе не поднялась бы в ту ночь на крышу. Иначе не сбежала бы от меня…
Я не анализирую, что именно движет ее поступками: жалость, чувство вины, страх или еще какая хрень. Я не хочу ничего выяснять. Я хочу свою женщину.
— Леся моя жена. Моя. Она меня любит, и я не отдам ее тебе.
— Я уже ее забрал.
И поверх документов ложится фотография Богданы: рыжее чудо, улыбающееся рассвету. Я сфотографировал ее на телефон в одну из наших утренних посиделок за стаканом молока.
Надо отдать ему должное, держится хорошо, хоть и видна боль в его исказившемся лице. Извини, мужик, но эти девочки — мои. Даже если меня ломает от твоих слов и от мысли, что я ошибаюсь и она действительно любит мужа, ведь добивалась же его столько лет...
— Это Богдана, — говорю, каждым словом вколачивая гвозди в гроб семейной жизни Корзина и моей Ксанки. — Ей двенадцать лет. И она наша дочь.
— Этого не может быть, — парирует он, всматриваясь в лицо девочки — точной копии его жены. — Леся же…
— Бесплодна? — и ловлю его злое изумление.
Да, мужик, я даже это знаю. Тебе ли не знать, что этим миром правят деньги и связи. Вот и гинеколог Ксанки поделилась, что та купила себе липовый диагноз. Подробности меня не интересовали, я хотел услышать их от Ксанки, но она отгородилась от меня бетонным забором недоверия. Ничего, я умею ждать. У меня было много времени научиться.
Выдыхаю. У меня есть еще один аргумент. И натюрморт дополняет упаковка с противозачаточными.
Корзин смотрит вопросительно.
— Это ее бесплодие, — поясняю.
Он берет таблетки, вертит в пальцах, и на безымянном сверкает золотом обручальное кольцо. Пока Корзин читает название, я ловлю себя на мысли, что не видел кольца на пальце Ксанки. Даже следа. И это чертовски радует. Не замечаю, как улыбаюсь, когда Корзин дрожащей рукой возвращает упаковку на место и смотрит на меня глазами приговоренного.
Демоны рвутся в цепях, предвкушая победу. А я просто позволяю Корзину сделать собственные выводы: ей не нужны дети, потому что у нее уже есть наша дочь. И когда он приходит к этой мысли, то хоронит свой брак легким росчерком ручки на документах о разводе.
Только после этого я звоню Роднянскому и забираю Ксанку.
За весь наш разговор в допросной хотелось встряхнуть ее хорошенько за то, что натворила, промолчала и молчит до сих пор.
Но она вдруг целует меня: встает на цыпочки и неловко утыкается губами в мой рот, словно неопытная девчонка. А я стою, как истукан и реально дурею от ее губ.
Черт, она реально такая вкусная, что так и съел бы. И сам не знаю, как впечатываю ее в себя, каждой напряженной мышцей чувствуя ее всю, сейчас такую податливую, отдающую себя мне, всю целиком. Она так легко отдает мне контроль, что я ощущаю себя Колумбом, обогнувшим земной шар и, наконец, открывшим свою Америку. И в штанах становится тесно до боли и острого, неконтролируемого желания. Еще немного и мне станет наплевать, что мы стоим на виду у ментов. Мне уже наплевать, потому что я до одури соскучился по ней, всегда такой искренней и честной в собственных чувствах.
Звонок моего мобильного рвет наш поцелуй. И я вижу, как румянец разливается по ее бледным щекам, пальцами ощущаю ее желание выкрутиться из моих объятий, но я не отпускаю. Мне нечего скрывать. Гляжу на дисплей: Эльф. И горечь затапливает рот, скользит по венам дрянным предчувствием. Отчаянно хочется сплюнуть, но вместо этого облизываюсь, разбавляя горечь сладким вкусом ванили и табака.
Интуиция не подводит. Алекс говорит, что приехал Воронцов с ментами, учинил скандал, требует отдать ему дочь. Я слушаю внимательно и когда хочу просить о помощи, Алекс опережает меня:
— Я уже Игната подключил, так что не отдадим мы твою красавицу. Она, кстати, покорила сердце нашего Матвея. Так что у твоей дочери теперь и навсегда есть верный Санчо Панса. И...Рус...мы вас ждем.
Киваю и роняю телефон в карман. Смотрю на Ксанку, растерянную и волнующуюся, и не знаю, что делать. Как нам быть? Растираю лицо ладонью, пытаясь собрать мысли в кучку.
— Планы изменились, — говорю Ксанке, потому что у меня действительно были другие планы, и я не собирался прямо из СИЗО вести ее знакомиться с дочерью. Но с другой стороны, я рад, что Воронцов объявился. Чем быстрее все решится, тем скорее я смогу увезти отсюда дочь.
И я снова злюсь на Ксанку, когда она вдруг превращается в равнодушную тварь. Спрашивает, зачем я хочу забрать Богдану из счастливой семьи. Счастливой, мать вашу. Так и хочется вытрясти из нее эту дурь, ткнуть в «счастье» Богданы головой. Воронцова защищает, доказывая, что тот не мог довести жену до самоубийства.
Злюсь, прикуривая сигарету: сначала ей, потом себе. И оказываюсь совершенно не готов к ее слезам и скрюченной от боли душе на дне блекло-зеленых глаз.
Она словно сломалась и сейчас, докуривая сигарету, дрожит так, что мне слышно, как стучат ее зубы.
И это ее:
— Прости, я просто устала...
Выбрасываю окурок и одним рывком тяну Ксанку на себя. Обнимаю так крепко, что она вздыхает болезненно. Но когда я ослабляю хватку, сама прижимается ко мне, словно от этого зависит ее жизнь, и всхлипывает, растирая слезы о мое плечо.
Ныряю пальцами в ее кудри и шепчу в макушку:
— Давай, родная, поплачь. Хватит уже быть сильной. Просто будь моей, а я смогу быть сильным за нас обоих.
Она вздрагивает всем телом, накручивает на пальцы рубашку и кусает мое плечо, с тихим воем выплакивая свою боль.
Глава двенадцатая: Рус
Я с тобой, но ветер знает - ты не моя,
твоя улыбка не для меня…
Стас Пьеха «Я с тобой»
Восемнадцать лет назад.
За окном вспыхнула молния, ослепила, вырвав из полумрака темные окна жилого дома напротив. Следом прокатился гром, задрожал в стеклах окон. И в грудь ударило с такой силой, что нож выпал из онемевших пальцев, звякнул о тарелку.
Закрыл глаза, делая жадный вдох. А в легких не кислород — жидкий огонь выжигал внутренности. Откинулся на спинку стула, отложив и вилку, пытаясь хоть немного унять боль. Но хрен там. Она лилась по телу, судорогой сводила слетевшее с катушек сердце.